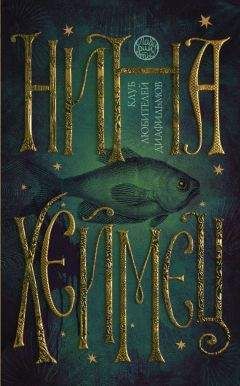Нина Хеймец - Клуб любителей диафильмов
— А что там делают?
— Школы находятся в долинах, среди гор — чтобы никто не подглядывал. Там стоят карусели, разной высоты и крутятся с разной скоростью. Самая большая карусель вращается так, что сиденья на длинных цепях летят почти параллельно земле. Сидений много, и на каждом — по ученику, в белом платье, и в шапочке их этой, чтобы голову не продуло. Так они и занимаются, в любую, причем, погоду — берут с собой на карусель завтрак, обед и ужин. А в конце им надо сдать экзамен — неделю на карусели продержаться, не слезая. После этого их производят в дервиши. И всё, и можешь кружиться, где угодно, без карусели1 уже.
Я говорю: «А кого в эту школу принимают?»
— Там надо три часа на карусели прокружиться, средней быстроты. Берут всех, у кого получится. Потом уже отсеивают.
Потом он встал с крыльца и сказал: «Я думаю, у меня бы получилось. Я, может, следующим летом туда и поеду. На интенсивные курсы».
А я не знала, получилось бы у меня, или нет.
И тогда Виталик говорит: «Это же очень просто выяснить. Пошли на детскую площадку, там же карусель есть».
И точно, есть же карусель! Мне даже обидно стало, что я сама не додумалась.
Площадка была в соседнем дворе. Там стояли качели — но на них нам было уже неинтересно раскачиваться. И карусель была, та самая. Она была с меня примерно высотой. Нужно было держаться за металлический поручень, разбегаться и виснуть на нем — карусель вращалась, а потом, постепенно, останавливалась. Когда‑то карусель была красной, но теперь краска стерлась, сползала с рукоятей, осыпалась; под ней проступал серый, затертый до тусклого блеска металл.
— Если просто так разбежаться, эффект будет не тот, конечно, — сказал Виталик, — мы так сделаем: ты сначала разгонись, а я тебя потом буду дальше подталкивать. Тут же время важно, не только скорость.
— А я думала, мы вместе будем.
— Нет, у нас сейчас другая задача. Нам нужно выяснить, примут тебя в школу дервишей или нет. Чтобы ты это для себя точно знала.
Я положила руки на поручень, он был прохладным, но скоро это перестало ощущаться. Поначалу карусель поддавалась тяжело, несмазанные втулки скрипели и постукивали. Я налегла на поручень грудной клеткой, попыталась разбежаться, кеды проскальзывали по влажному песку, оставляли бесформенные следы. Наконец карусель начала разгоняться — первый круг, второй. На третьем кругу мне казалось, что ноги у меня стали легче, что я почти их не чувствую, могу двигаться безо всяких усилий, огромными шагами — скачками, как паук, как космонавты на луне — они, наверное, там тоже так передвигались. Надо было улучить подходящий момент. На четвертом кругу, я постаралась набрать скорость еще больше и, резко оттолкнувшись от земли правой ногой, повисла на поручне. И в эту же секунду Виталик с силой, от плеча взмахнул рукой и толкнул проносящийся мимо него поручень, потом следующий,
и еще раз, и еще. Меня обдувал ветер, мне казалось, что он весь остается у меня в груди, копится там, будто в аккумуляторе, и было непонятно, что с ним делать дальше — нужно было и смеяться, и плакать, и кричать, и улететь, разжав кулаки, оторвавшись от прилипшего к ним металла. Виталик продолжал раскручивать карусель, все быстрее и быстрее. Все, что было вокруг — пятиэтажки, деревья, гаражи, изгородь школьного двора — все это стало вдруг плоским, я будто оказалась внутри кокона, состоявшего из упругого воздуха и мелькавшей рябой ленты. Я не знала, сколько прошло времени, но, для того чтобы выдержать экзамен, этого явно было недостаточно. В какой‑то момент я почувствовала, что мне необходимо закрыть глаза, но, когда я их закрывала, мне начинало казаться, что карусель переместилась внутрь меня, кружится там и тянет меня вниз.
Я крикнула: «Останови!».
Виталик размахнулся и толкнул поручень.
— Останови, слышишь!
Он продолжал раскручивать карусель. Оборот следовал за оборотом. Я почувствовала, что больше не могу на ней удерживаться, пальцы разжимались, ухватиться крепче у меня уже не получалось.
И, это было невозможно, но мне казалось, что, проносясь мимо Виталика, я успеваю видеть его лицо; он смотрел прямо перед собой, его рот был полуоткрыт, глаза расширены, правая рука была отведена, поджидая приближавшийся поручень, готовая последовать за ним, слиться с ним, пусть на секунду, сообщить ему еще большую скорость, зарождавшуюся в этом взмахе локтя, в напряженности взгляда, в застывших зрачках; кисть левой руки была сжата в кулак, поднята — как у обороняющегося боксера.
— Останови карусель!
Еще оборот.
— Останови! Я так не играаааааю!
Я плохо помню, что произошло дальше. Я отпустила поручень. Он будто исчез у меня из рук. А потом я лежала на земле, кокон разъединился, снова распался на растения, постройки, на угловатые контуры детской площадки, на небо и на землю, но все это продолжало вращаться, сдвигалось вокруг меня, наскакивало, и не было больше ни «ближе», ни «дальше», ни «выше», ни «ниже».
Потом я увидела Виталика. Он спрашивал, не ушиблась ли я.
Я не ушиблась.
После этого случая мы уже не ездили искать дервиша. Когда мы встречались во дворе, мы говорили друг другу «Привет!», и каждый шел себе по своим делам. Да и говорить‑то нам было особо не о чем. А летом Виталик с родителями и бабушкой уехали из нашего города. Насовсем. Я узнала об этом после их отъезда, в тот же день. Я тогда пришла домой, а мама сказала мне, что заходил Виталик, попрощаться. Он оставил для меня подарок. Это была шкатулка, я ее у него уже видела. Эту шкатулку ему однажды бабушка купила, когда еще в отпуск ездила, в Евпаторию. В шкатулке был секретный ящик, и, если завести ключик, на крышке крутилась пластмассовая балерина. Виталик этой шкатулкой не пользовался. Он говорил, что балерина — это для девочек, и вообще непонятно, зачем ему бабушка ее привезла. А мне шкатулка очень нравилась.
Я поставила шкатулку на книжную полку. В первый год я хранила в секретном ящичке пистоны и патрон от охотничьего ружья, который мы однажды нашли в парке. Потом я хранила там сигареты и зажигалку — к шкатулке все привыкли, и родителям не приходило в голову ее открывать. Ее, казалось, вообще не замечал никто.
…Однажды я пошла в булочную, за чаем. В кондитерском отделе я заметила на полке желтую картонную коробку. Коробка была покрыта пылью. Видимо, она стояла на этой полке уже много времени, но я почему‑то ее не видела. По крышке полукругом шла надпись, стилизованная под арабскую вязь: «Танец дервиша». Под надписью был нарисован человек в длинном белом развевающемся наряде. На нем была шапочка, похожая на поварскую, но не поварская. Его руки были подняты, а голова наклонена к плечу. У него были длинные усы.
Внизу крышки, мелким, обычным шрифтом было напечатано: «Конфеты рахат — лукум. Пр — во Турция».
У меня как раз хватило денег — я купила конфеты и принесла домой. Я открыла коробку — внутри лежали ссохшиеся шарики, похожие на глиняные катыши. На боковой стенке я увидела расплывчатый синий оттиск с датой: срок годности истек три года тому назад. Вечером я оторвала от коробки крышку и аккуратно вырезала оттуда дервиша. Потом я взяла с полки шкатулку, отвинтила от ее крышки балерину и приклеила дервиша на ее место. Клеем «Момент». Балерину я положила в секретный ящичек.
Не сказать, что очень часто, но, бывает, я достаю с полки шкатулку, завожу ее и ставлю на стол. Играет музыка — звенят механические колокольчики, и на крышке крутится дервиш. Я сижу перед ним — он поворачивается ко мне то белым нарядом, то силуэтом из неокрашенного картона. Я всегда жду, пока закончится завод, и только потом возвращаю шкатулку на место. Рядом со столом висит зеркало, но я наблюдаю, как танцует дервиш, и не смотрю на свое отражение.
Ночью были фейерверки, днем — воздушные змеи. Воздушных змеев продавали стриженные почти под ноль мальчишки в застиранных свитерах. Как только светофоры переключались на красный, мальчишки появлялись на перекрестках, сновали между машинами, прижимались лбами к автомобильным стеклам, старались встретиться взглядом с шоферами. Змеи были почти в их рост, разноцветный нейлон хлопал на ветру — в тот год змеи были оранжевыми и темно — синими. Потом сигнал светофора менялся, машины трогались с места, так быстро, что все движения за стеклами оставались незавершенными — ладони почти касались бокового стекла и исчезали, оранжевое полотнище застывало в потоке ветра, отражавшееся в окне дома напротив солнце вспыхивало и сворачивалось — окно становилось непрозрачным.
* * *Получается, что я знал его всегда. Но это не так. Я просто помню себя в его квартире: скоро вечер, завтра в школу, я один, я — здесь. Он говорит, что я ошибся,
что я зашел не в тот подъезд, и что даже этажи — мой и его — не совпадают, поэтому он не понимает, с чего вдруг я позвонил именно в его дверь. Окно его комнаты выходит на школьный двор, за двором — гаражи, я видел там дохлую ворону, но об этом лучше не вспоминать.