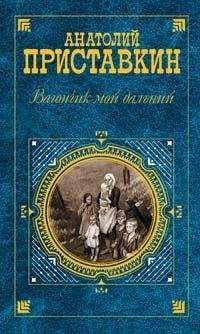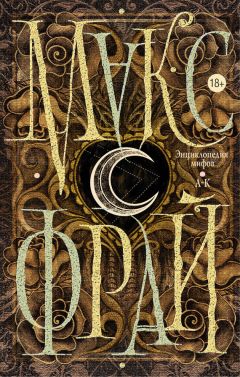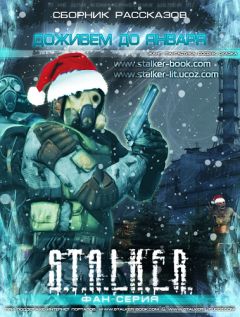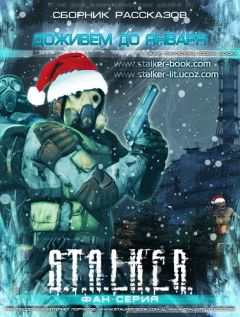Анатолий Приставкин - Вагончик мой дальний
Крик поднялся с матюгом, и от других вагонов тоже, и страж наш прибежал: глаза вылупленные, руки дрожат, крутит головой, чтобы понять, сколько нас тут осталось. Еще бы: ему первому и влепят.
Пересчитал — и за кустики. А оружие свое наперевес, будто в атаку на врага пошел, и долго, кроме матюгов, ничего не слышали. Теть-Дуня рискнула выглянуть, говорит, собаки… Какие еще собаки? Сыскные, что ли? Да нет, говорит, часовые, как псы гончие, только что не рычат и не лают, а так звери, не люди… Гон-то устроили, будто за дичью. Я высунулась, а они мимо, мимо, только кулак кажут!
Ну что не рычат, не лают, это она ошиблась. По-человечески, и правда, разучились. Но зачем собак-то обижать? У охранников язык и манеры шакалов. И вдруг: бах, бах! И стихло. Потом вернулся Петька-недоносок, в глине весь, грязным пальцем еще раз всех пересчитал, не залезая наверх, и палец у него, мы все это видели, дергался вверх-вниз. Потом его вызвали в штабной вагон. Вернулся — будто на коне приехал: поддатый, и нос кверху. Как сказала наблюдательная теть-Дуня: «Видать, поощрили банкой тушенки, а то и стаканом самогонки… За удачную охоту».
А уж когда забарабанили колеса, и можно было говорить не таясь, теть-Дуня прочитала «Богородицу» — и вслух, не для кого-то, скорей для самой себя, произнесла, что Скворчик-то был первый из нас, кто решился покинуть вагончик…
А я вдруг подумал, что Скворчик, которого мы так мало знали, тоже из лишних людей… Был, да весь вышел. В расход. Осталось двадцать три. Тоже лишних. Кто следующий?
Петька-недоносок сразу догадался, что мы стали его бояться.
Однажды, хлопая при пересчете каменной ладонью по головам, не выдержал, похвастал, мол, я вашу птичку разлетную со второго выстрела снял, да и бегает-то он неважно. Хоть бы зигзагом, а то прямиком да прямиком по полю… Его только на мушку брать, как в тире! А я по стрельбе в части первенство завсегда держал! И смотрит: впечатлило? Не впечатлило?
А однажды перед нами выступил уже как герой гражданской войны, с Чапаем будто воевал, так вот. Кино, говорит, смотрели? Это про меня.
— Чапай, что ли? — спросили с издевкой.
Но издевки он не понял и важно отвечал, что не Чапай… Вот кто рядом с Чапаем-то был?
— Ну Петька…
— Он. Перед вами. Собственной персоной.
— Так это когда было-то, — усомнился спрашивающий, а мы уж молчали. — И не похожий совсем.
— Изменился. От перенесенных многих ран. — И спросил хитро: — Сколько мне лет, а? — Грудь при этом открыл, а она вся в наколках, будто художественная галерея. Сталин там, Ленин, Кремль и крупно: «ЗК — Забайкальский Комсомолец!» А во всю левую руку, когда заголил: «Не забуду мать родную!».
Тут мы стали вглядываться: вроде как подросток, а шея вся в морщинах, и зубы стальные. Говорят же: маленькая собачка до старости щенок. А в чапаевского Петьку все равно никто не поверил. На бывшего уголовничка больше тянет.
Но вот, когда похвалялся давеча, что девочек потребляет, это от зависти. Штабные строго-настрого запретили без них кого-нибудь трогать. Не вырос, мол, еще, чтобы на девочек глаз класть. А я ночью однажды проснулся, услышал, как он к теть-Дуне подлез, разоткровенничался, стал у нее выклянчивать хоть кого-то на ночь.
Сперва-то на голос брал, на понт, ружьем своим в нос тыкал, но теть-Дуня и не такое в жизни видала, ее ружьем не напугаешь. «Да ступай ты от меня! — сказала она Петьке. — Псиной от тебя несет, не моешься»! А он тогда захныкал, стал на жизнь жаловаться, тушенку в руки совать. Просил, ты уговори кого-нибудь, их ведь все равно штабные употребят по пьянке, а мне до смерти хочется попробовать.
— Эх, Петька… — Теть-Дуня головой покачала. — Они, — это про нас, — хоть мельче тебя, пужливей, хоть зверьки в твоей клетке… Но люди! А ты — скот и есть!
— Но, но! — зарычал он тогда, даже взвизгнул, разбудив весь вагон.
Прикладом винтовки в пол постучал для острастки. — Сравнила хрен с пальцем!
— Да так и есть, — сказала теть-Дуня со вздохом. — Ружье тебе вручили врага убивать, а ты возомнил из себя… Дурак-то с ружьем — похуже врага будет!
— Я дурак? — пер на нее недоносок. — А вот к стенке поставлю, как контрреволюционерку, будешь знать!
— За что же это?
— За слова разные…
— А кто слышал?
Тут мы заорали, что мы ничего не слышали.
— А мне все равно больше поверят… А то выведу на рельсу и скажу: «Хотела убечь».
— Ну и опять дурак, — сказала теть-Дунь. — Кто же станет бечь, когда все знают, что ты Скворца подстрелил?
Петька вроде опомнился, замолчал. Пробормотал сквозь зубы, направляясь к выходу:
— Вот то-то! И бойсь… Вы все бойтесь! — крикнул уже нам. — Я страшный, когда разозлюсь!
И спрыгнул в темноту.
7
На какой-то остановке, поздно вечером, Петька-придурок явился, как всегда, за девочками. Пока они собирались да шептались между собой, осмотрел хозяйским глазом левую половину вагона, ткнул пальцем в меня и Шабана: «Ты и ты!».
— Это куда? — спросил Шабан недовольно. Я промолчал. Велят — значит, знают куда.
— На кудыкину гору! — буркнул посыльный. — Пошевеливайся! Начальство не любит ждать!
Нас повели вдоль эшелона в головной вагон. Девочки, которым уже все привычно, впереди, а мы с Шабаном следом. Когда спотыкаемся о шпалы — нормально-то отвыкли ходить, — Придурок тычет прикладом: «Шаг влево, шаг вправо… За побег… Стреляю без предупреждения!».
Это он для собственного удовольствия. Знает наперед: никуда мы не побежим, особенно после случая со Скворцом.
Штабной вагон — пассажирский. Мы о нем наслышаны. Ступеньки, тамбур, узкий коридор. Протолкнулись друг за дружкой вовнутрь и очутились в просторном помещении, освещенном керосиновой лампой, подвешенной к потолку.
За столом, заваленным закусками, спиной к нам сидел человек без кителя, в нательной рубашке. Не обращая на нас внимания, он налил в жестяную кружку водки, опрокинул в себя, крякнул, не закусывая, и только после этого обернулся. Лицо его было неестественно белого цвета, белей его рубашки. Я так его и прозвал про себя: Белым.
Девочки же называли, как он велел: Лёшей.
— Явились? — спросил он в пространство. Мне показалось, что он сильно пьян.
— Так точно! В комплекте. Как приказали! — заверещал тенорком сопровождающий. Тут у него и вид и манера говорить, я со злорадством это отметил, были не такие, как с нами.
— Сделал дело — гуляй смело! — добродушно бросил Белый Леша.
— Слушаюсь! — торопливо подхватил тот. — Обратно когда?
— Когда — скажем. Катись отсюдова…
Придурка как водой смыло. А Белый Леша долил в кружку водки, собрался пить, но отложил, крикнул кому-то:
— Так сколько ждать?
Из-за перегородки объявились еще двое, оба, как Леша, без мундиров: один в синей майке, а другой полуголый, с волосатой грудью.
Этих я про себя сразу прозвал Синим и Волосатиком. Они тоже были на взводе.
Не обращая на нас с Шабаном внимания, они шагнули к девочкам, стали медленно вытеснять их в соседнее помещение. Все молча, без слов. Но девочки, кажется, привыкли к такому обхождению. Они покорно отступили в коридор и исчезли за перегородкой.
Мы продолжали стоять за спиной Белого Леши, глядя, как он отхлебывает из кружки, наклоняя стриженую голову к столу. Но что-то, видать, его осенило. Он поднялся с места, и мы увидели, что у него вместо ноги протез. А может, просто деревяшка, скрытая брючиной. Он постучал кружкой по деревяшке и крикнул:
— Симуков! Верни Зойку!
— Зачем? — спросили игриво из-за перегородки.
— Она мне нужна!
— Она всем нужна, — сказал невидимый Симуков.
— Хватит вам и Милки, — сказал Леша Белый властно. Стало понятно, что он тут главный.
— А если не хватит? — неуверенно возразили из-за стенки и вдруг заорали в два голоса:
Мы не сеем и не пашем, а валяем дурака,
С колокольни х… машем, разгоняем обла-а-ка!
— Вот именно! — подтвердил Леша Белый. — Больше ничего и не умеете… — И закричал так, что эхо отдалось в конце вагона: — Зой-ка! Наплюй на них и топай, маршируй сюда!
Не сразу объявилась Зойка. Рубашечка на ней была расстегнута, и можно было увидеть белые полусферы грудей. Проплыла уточкой мимо нас, только косой вильнула, даже не повернула головы. А мы с Шабаном на ее распахнутую грудь уставились. Не могли оторвать глаз.
Не знаю, как Шабану, а мне вдруг подумалось, что мы тут прямо как в театре. Перед нами пьют, ходят, гуляют… На нас вообще ноль внимания — фунт презрения, будто мы не существуем. А нам так даже интересней: цельный спектакль после стольких месяцев прозябания в вагончике. Еще было бы интересней, если бы не опасались, что нам тут приготовлена похожая роль.
А Леша Белый посадил Зойку к себе на колени и, придерживая за поясницу, стал совать ей в губы кружку. Она молча отворачивалась — водка лилась ей на грудь, на пол, — но с чужих колен не слезла. За стеной громко гоготали мужчины и повизгивала Мила. То ли плакала, то ли смеялась.