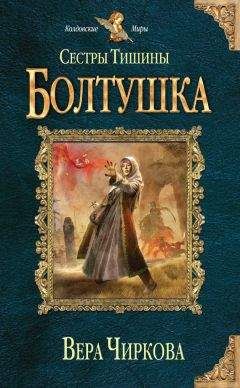Vremena goda - Борисова Анна
Расставание с Харбином ни меня, ни Давида не опечалило. Мы были свободны, богаты, мы любили друг друга. Весь мир был нам открыт за исключением несчастного куска земли на краю азиатского континента. Господи, да провались пропадом это захолустье!
Выбор был между Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. Мы долго спорили, сравнивали, не могли договориться и в конце концов бросили жребий. Выпал Париж, и мы так обрадовались, что стало ясно: в глубине души оба хотели именно туда.
Перемещение в пространстве было плавным, естественным. Из Харбина, говорившего по-русски, мы перебрались в город, который, хоть и лопотал на французском, но русских там жило не меньше, чем на берегах Сунгари.
Первые четыре года французской жизни, пока не кончились «папочкины» деньги, я про себя называла «золотым веком царя Давида». Мы купили огромную квартиру на авеню Рапп и зимнюю виллу в Ментоне. Ездили на горнолыжные курорты, совершали трансатлантические круизы. На каждый праздник, а иногда и просто так муж дарил мне рубины – он говорил, что это мой камень.
Потом банковский дом, оставшийся без хозяйского присмотра, лопнул. Еще год мы проживали всё, что имели: виллу в Ментоне, рубины, квартиру на авеню Рапп. Наконец однажды – к тому времени мы уже переехали в скромный трехкомнатный мезонин близ Люксембургского сада – Давид, комично разведя руками, объявил: «Представляешь, они сказали, что мой счет пуст. Вероятно, мне придется пойти работать».
Я была к этому готова. Я давно ждала, когда же закончатся «папочкины» деньги. Роскошь меня не радовала, я ее только терпела, изображая восхищение очередной рубиновой безделушкой или тысячефранковой сумочкой из страусиной кожи. И вот мой час настал. Теперь я встану у руля нашей жизни, и, можете быть уверены: у меня банкротства не будет.
Осуществилась извечная женская мечта: чтобы любимый зависел от тебя целиком и полностью. Правление царя Давида закончилось, наступила эпоха царицы Савской.
Я обняла мужа и произнесла заготовленную речь в духе Царевны Лебеди, объявляющей князю Гвидону: «Полно, князь, душа моя, не печалься; рада службу оказать тебе я в дружбу». В заключение я сказала: «Теперь мы будем жить по-другому, по-настоящему. Как все нормальные семьи».
Золото Ивана Ивановича пять лет ждало своего часа в номерном сейфе надежнейшего швейцарского банка – и этот час пробил.
Теперь я раз в три месяца ездила в Женеву, продавала один-два самородка – ровно на такую сумму, чтобы хватало на разумную, без глупостей жизнь до моего следующего визита.
Мне нравилось экономить, планировать расходы. О будущем я не беспокоилась. Золота Желтуги при подобных темпах хватило бы лет на двести.
Так мы прожили еще четыре года.
Давиду было все равно, на чьи средства мы живем. Никаких комплексов на сей счет у него не было. Пожалуй, я не встречала человека, который был бы так равнодушен к деньгам при любви ко всякого рода удобствам и красивым ненужностям.
Это была лучшая пора нашего брака. Я часто ходила обиженная, по ночам орошала слезами подушку, жаловалась маме на свои несчастья – и была неприлично, бесстыдно счастлива.
Тощие годы настали, когда летом сорокового закрыли границу. У нас были обычные для русских эмигрантов нансеновские паспорта. Пока мы были богаты, это не имело никакого значения – богатые люди везде желанные гости. Когда началась война, я даже была рада, что Давид не натурализовался, иначе его забрали бы в армию.
Но после капитуляции мы хлебнули настоящей бедности. Устроиться на работу Давид теперь при всем желании не смог бы. Я перебивалась случайными переводами с китайского и продавала вещи – пустяковые, рубинов у меня не осталось. Жить мы переехали в крошечную квартирку за Площадью Италии. Там я и приготовила наш последний завтрак…
Нет, это невыносимо! Теперь они затеяли игру: звери на водопое. Девочка уже не ревет, а пищит и улюлюкает. Господи, ну что он вытворяет? Как будто не знает, что мне нужно спешить! И каша уже холодная. Можно подумать, этот рис доставал он!
Я сердито иду по коротенькому коридорчику, распахиваю дверь ванной. Давид с засученными рукавами, в забрызганной рубашке смотрит на меня с оживленной улыбкой. Он очень красивый. Я не могу на него злиться.
– Каша остыла, вытирай ее и марш на кухню, – говорю я и протягиваю полотенце к светящемуся облачку, которое колышется возле умывальника.
Девочки я не вижу. Однажды я взяла и стерла из памяти всё с нею связанное, и теперь, даже если очень захотела бы вспомнить, не получится. Так выскабливают с фотографий лица людей, которых нужно забыть.
Для того чтобы не сойти с ума, мне пришлось решить, что о дочке я думать не буду. Никогда. Я так долго запрещала себе мысленно произносить ее имя, что забыла его. Действительно забыла. Вытеснила в дальние подвалы памяти, ключ от которых навсегда затерян. Если девочка и мелькает в моих воспоминаниях, то расплывчатым пятнышком света, невнятным эхом звонкого голоса, и слов разобрать невозможно.
Мать из меня получилась так себе. Все родительские обязанности я выполняла, но мужа любила сильнее, чем ребенка. Дочка была для меня средством получше привязать к себе Давида, частью стратегии по его приручению. Паучиха придумала завязать еще один узелок в своей паутине, чтобы мотылек уже никогда не выпутался. Известно, как отцы млеют от маленьких дочек, поэтому я хотела именно девочку, и она родилась. Всё получилось, как я рассчитывала. Малютка лепетала, Давид таял, начал проводить дома больше времени. А с тех пор как в оккупированном городе ходить ему стало некуда, они уже просто не расставались.
Часами напролет они ползали по полу, играя… Господи, во что же они играли?
Не помню. Я ничего не помню. И хорошо, что не помню.
Сначала девочки не было, потом она была, потом исчезла. И точка.
Всё, как обычно. Я стараюсь быть терпеливой, уговариваю светящееся облачко не капризничать, съесть кашу. У Давида это получается лучше.
– Ну-ка, киска, – говорит он, – да ты никак поймала мышку! Покажи, как ты ее слопаешь.
– Ам! – отвечает облачко.
– Умница. А это что такое в ложке? Неужели еще одна мышка? Как удачно ты сегодня поохотилась. Давай ее скорей проглотим, пока не сбежала!
Я вздыхаю.
– Надо тебя как-нибудь с собой взять, чтоб ты так же маму покормил.
Первые признаки распада личности у мамы начались года за полтора до войны. Она сделалась очень мнительной, раздражительной, капризной. Я думала, что она переволновалась из-за моей беременности, но с каждым месяцем круг маминых интересов сжимался всё уже. Она стала забывчива, ей было всё труднее управляться одной, пришлось поселить к ней помощницу по хозяйству, потом другую – долго они не выдерживали. С ужасом узнавала я знакомые симптомы: десять лет назад то же самое происходило с папой, а еще раньше с бабушкой.
В мае сорокового мы не смогли покинуть Париж, потому что уехать с мамой было нельзя, а бросить ее одну невозможно. Повторилась та же ситуация, из-за которой мы не уехали в 1918-ом из гибнущего Петрограда. У меня было ощущение, что это Рок обрек мою семью на раннюю старческую деменцию (ни о наследственности, ни об имитационном синдроме, когда психическое заболевание родственника порождает в человеке сходную патологию, я тогда еще не знала).
Мама словно двигалась в обратном направлении, из взрослого состояния в детское. С каждым годом ее сознание опускалось на одну ступеньку: семь лет, шесть, пять, четыре. Нам жилось бы много легче, поселись мы все вместе, но об этом нечего было и мечтать. Мама не выходила из своей квартиры и горько плакала, если кто-нибудь пытался сдвинуть с привычного места какую-нибудь вещь, а уж от переезда, наверное, просто умерла бы. Про войну и немцев она ничего не знала, про существование внучки забыла, про Давида спрашивала, скоро ли он вернется из Харбина. Маму интересовала только еда. Она требовала пирожков с грибами, или земляничного варенья, или соленых огурцов и безутешно рыдала, когда я не могла ничего этого достать.