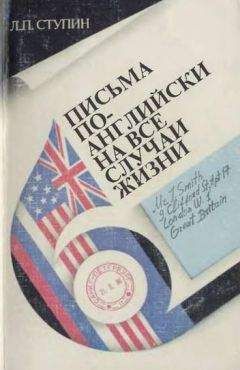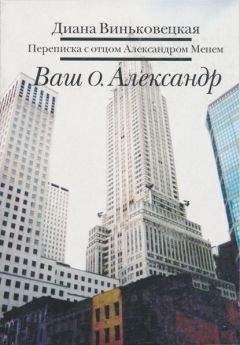Мулуд Маммери - Избранное
— С тобой ли, с другим ли…
— Тогда уезжай с другим, с другим ты можешь быть счастлива. А со мной…
— Ничего-то ты не знаешь, — ответила она. — Через месяц я все равно вернусь к Рехо… А еду я на процесс.
— На какой процесс?
— Адди-у-Бихи. Суд начинается завтра.
— Откуда ты знаешь?
Она засмеялась:
— У нас об этом все знают. Один ты, иностранец, ничего не знаешь.
— Там будут говорить по-арабски, ты ничего не поймешь.
— Ну и что ж. По радио говорят, что он предатель. Я хочу посмотреть, какие бывают предатели.
— Послушай, нет-нет, сиди спокойно и слушай, что я тебе скажу. Я иностранец, как тот приятель маленькой Махсен. И я тоже уеду в один прекрасный день.
— Все вы уезжаете, — сказала Итто.
— К тому же у меня дела в городе.
— В каком городе? — спросила Итто.
— Ты не знаешь, это далеко отсюда, в Лараше. Так вот, послушай, дай-ка твое пальто. Надень его, вот так! Застегнись! А где твои туфли? Сняла? Надевай. Вот так! Теперь, как большая умная девочка, которая знает, что делает, а не как взбалмошная девчонка, у которой в голове невесть что, ты вылезешь из машины и пойдешь вон туда, — он показал на лес, в сторону Танефнита, — и будешь идти всю дорогу одна, не оборачиваясь и не останавливаясь. Дорогу ты знаешь, ходить тебе не привыкать. Дойдешь до своей палатки. Тихонько-тихонько войдешь в нее. Спокойно заснешь, а завтра утром встанешь… и приготовишь обед отцу с братом, накормишь их, когда они вернутся с работы. И так все двадцать девять дней, а на тридцатый ты наденешь свои самые красивые наряды и станешь женой Рехо-у-Хэри. Если смогу, я тоже приеду посмотреть на твою свадьбу. Все будет хорошо, и ты будешь счастлива. А если ты этого не сделаешь, Итто, мы сейчас же простимся с тобой навсегда.
— Как хорошо ты говоришь! — сказала она. — Только я хочу спать. Все это ты расскажешь мне завтра, когда я проснусь.
Она прижалась к его плечу. Он почувствовал прикосновение ее груди и вскоре уже не мог различить, его это сердце бьется или ее.
— Если замерзнешь, возьми пальто, — сказала она. — Только не гони. Ты ведь никуда не спешишь, а я всегда успею приехать.
Он ничего не сказал, натянул на себя край пальто, обнял Итто за плечи. Их поглотили молчание и мрак, машина, затерявшись в долине, скользила, словно челнок, ведомая, как на привязи, двумя живыми лучами.
— А что мы будем делать все эти двадцать девять дней?
— Не волнуйся, завтра же я сдам тебя каиду Мрирта, и он отправит тебя домой.
— Как ты думаешь, он меня сначала посадит в тюрьму?
— Тебе бы это было полезно.
— Приходи навещать меня в тюрьму. Мне будет не так скучно, если я стану ждать тебя.
— Все это время я буду занят.
— Революцией?
— Это тебя не касается.
Она закрыла глаза и долго молчала, потом сказала:
— Помнишь, что ты говорил мне в Азигзе?
— Нет, я не помню, что я тебе говорил в Азигзе, но, что бы я ни говорил там, забудь об этом.
— Я уже пробовала… Не могу!.. Лучше бы ты ничего не говорил мне.
— А что я тебе сказал в Азигзе?
— Я не смогу повторить точно, слово в слово, но смысл прекрасно помню. В Азигзе ты говорил: «Овцы привыкли к своему стаду, к овчарне и согласны жить там, лишь бы им бросали корм. А лев предпочитает жить один в лесу и подыхать с голоду».
— Прекрасно! Поздравляю! Ты как талеб[72]. Он наизусть знает все суры Корана и повторяет, ничего в них не понимая. Так и ты.
— Я хочу спать, — сказала она.
За Мриртом большое шоссе, ведущее на Фес, пересекает холмистую равнину. Фары ласково скользили своими конусообразными лучами по зреющей пшенице, полные зерен колосья на прямых стеблях напоминали плотно нанизанные бусы. Проехав несколько километров, Башир остановился около заброшенной сторожки.
— Я тоже хочу спать, — сказал он.
— Нам будет очень хорошо в этом дворце, — сказала Итто.
Было холодно, и она захватила пальто. Башир извлек из багажника старый, верно служивший ему плед…
В Мекнесе, куда они приехали на другой день, она потащила его на сук[73]. По темным и тесным улочкам, где костлявые ослики перетаскивали на своей спине огромные тюки, загораживая всю дорогу, Итто передвигалась с такой ловкостью, будто всю жизнь прожила в этом городе.
— Пойдем. Мы сейчас все купим для моей свадьбы.
Она накупила кучу ненужных вещей, нагрузив ими Башира. Под конец карманы его и обе руки оттягивали пакеты с хной, пряностями, благовониями и тканями самых странных расцветок.
— Так я все растеряю.
Они отправились в парк, чтобы все разобрать и как следует уложить. На соседней с ними скамейке какой-то клерк в замусоленной белой джеллабе и белом колпаке пересказывал поучительным тоном содержание газеты, которую держал в руках. Он бормотал, раскладывая и складывая страницы, потом с важным видом обращался к окружавшим его вопрошающим глазам:
— «Этот человек жил как феодал среди своих придворных и голодных рабов. Наверное, ему никто ни разу не сказал, а сам он читать, конечно, не умеет, что в Марокко, нашей любимой отчизне, кроме короля, который является первейшим поборником справедливости в королевстве, есть только граждане, и все они равны как в своих правах, так и в своих обязанностях».
Итто слушала с явным интересом. Талеб как раз повернулся в ее сторону.
— У него лживые глаза, — сказал Башир.
— «Если есть люди, — продолжал клерк, — будь они марокканцы или иностранцы, которые еще полагают, что могут вернуть в нашу страну гидру колониализма, пусть не обманывают себя. Первейший страж нашей независимости, наш король, правительство, суд, полиция и армия помешают им осуществить их мерзкие замыслы. Да и сам народ, который столько выстрадал в застенках колониализма и ценой собственной крови заплатил за нашу благословенную независимость, сам народ в случае необходимости вмешается в это дело и добьется того, чтобы преступники понесли заслуженную кару за свои преступления…»
Итто опустила длинные ресницы, спрятав свой отсутствующий взгляд. Рука ее машинально перебирала голубую шелковую ткань.
Чтец запинался на каждом слоге, выкрикивал гласные, по нескольку раз повторяя одно и то же, и наконец смолк. По всей видимости, он уже больше ничего не понимал. Но это ему даже облегчило дальнейший перевод.
— «Весь народ, глубоко возмущенный неоколониалистскими происками Адди-у-Бихи, вместе с нами ждет решения суда, он спокоен, ибо знает, что правосудие, непреклонное, беспощадное, суровое правосудие избавит его от необходимости дать волю своему гневу».
Талеб кончил переводить. Величественным жестом сложив газетные листы, изрек:
— На все воля аллаха. — Обвел собравшихся своими бегающими, лживыми глазами и застыл с холодным, непроницаемым выражением лица. Тогда только слушатели оживились и на все лады начали обсуждать то, что столь сложным языком изложил им талеб. Итто вдруг встала и подошла к ним.
— Сколько ты заплатил за это, талеб?
Талеб ответил, подавив свое высокомерие:
— Это газета, сестра моя.
— И дорого это стоит? — спросила Итто.
— Двадцать пять франков, но я могу подарить ее тебе.
— Всего двадцать пять франков? — переспросила она. — Все равно дороговато за такое вранье!
Башир загородил ее. Он был уверен, что они набросятся на нее, изобьют, затопчут… Но нет, на нее посыпался всего лишь град ругательств, разобрать которые было трудно, потому что ругались все разом:
— Пошла вон, дочь греха!
— Да проклянет тебя аллах!
— Разоренье дому твоему!
Они уже были далеко, когда до них донеслось последнее ругательство:
— Если б у тебя в сердце оставалась хоть капля стыда, положенного мусульманке, ты бы не шлялась с вонючим иноверцем.
Они снова сели в машину и поехали в Рабат. Остановившись на улице Мухаммеда V, Башир разбудил спавшую Итто.
— Я отведу тебя в гостиницу. Там ты можешь спать дальше. А я буду занят весь день… Да, да, революцией, — сказал он. — И нечего смотреть на меня такими глазами.
— Я просто думала о ваших предателях после вашей революции.
— У нас их не будет, мы позаботились об этом раньше.
— У тебя короткая память.
— А ты знаешь хоть одного?
— Нет, но ты забываешь свои собственные проповеди: революция порождает предателей, подобно яблоне, что приносит яблоки. Когда у правителей не будет хлеба, чтобы накормить народ, они начнут бросать ему предателей пачками, дабы утолить его голод. Что, разве не твои слова?
— Шла бы ты лучше спать.
— Нет. Посмотри на этих людей, все они ждут, когда откроются двери суда. Я пойду к ним и буду приходить сюда каждое утро, пока не начнется суд.
У ограды суда собралась толпа: потасканные костюмы и серые джеллабы облепили решетки, как пчелиный рой. Вход в здание преграждал заспанный полицейский.