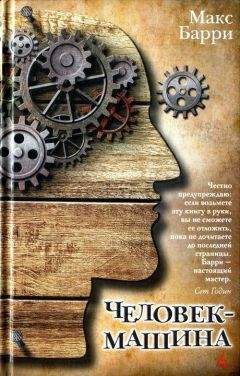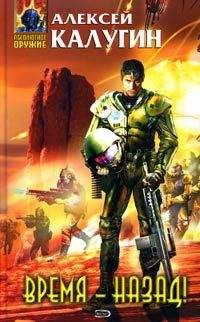Патрик Уайт - Древо человеческое
– Они не ссорились, – сказала мать. – Люди часто куда-то пропадают, а ты сиди и гадай, по какой причине, а причин всегда много.
– Ну все равно, – сказала Тельма, – я поеду в город. Мне даже страшновато, Рэй. Я куплю сезонный билет и каждый день буду ездить из Рэндвика на трамвае. У миссис Гейдж есть там знакомые, они будут приглашать меня к себе. У них галантерейный магазин. Очень богатые люди. А миссис Гейдж шьет мне платье. Оно бежевое, вот тут немножко присборено, а юбка в складку. И маленькие красные пуговички, по три на рукавах и ряд на спине.
Когда в очаге вспыхивали поленья, отсветы падали на лицо Тельмы. Все-таки она хорошенькая, а может, это просто от возбужденности; она сидела, высоко подняв голову на чересчур тонкой – это уж точно – шее, и аккуратными пальчиками собирала крошки.
Мать, слушая все это как бы издалека, ела свою привычно простую лепешку, но ей не удавалось так же привычно просто чувствовать себя за столом. Может, хоть детям полегче?
Рэй глянул в окно. Он пытался справиться с ощущением несправедливости и тортом, застревавшим в горле. Длинные плети злобного дождя начали хлестать кусты крыжовника, который плохо рос в этих местах, хотя Паркеры продолжали ухаживать за кустами.
– И что же ты будешь там делать? – спросил он, еще не зная, в какой форме выразится его обида или самозащита. – В своем бежевом платье?
– Ну как что, – вспыхнула она. – Выдержу экзамены по стенографии и машинописи, потом поступлю на работу к биржевому маклеру или адвокату, куда-нибудь. И уж чего-то добьюсь в жизни, будь уверен, – ровным тоном добавила она.
– И выскочишь замуж за какого-нибудь балбеса.
– Я о таких вещах вообще не думаю.
– И будешь тренькать на пианино, – засмеялся Рэй, – а он деньги в дом приносить.
От грудного, звенящего смеха, которому он только сию минуту научился, ритмично заколыхалось его тело, и ему понравилось это ощущение. У него была сильная шея и довольно тяжелые веки. Он сидел, глядя в окно на пасмы серого дождя, они неслись над пастбищами, а дальше разбивались о корни черных деревьев.
– За что ты ее так? – спросила мать.
– Да ни за что, – сказал он, успокаиваясь. – Просто все осточертело.
– Тебе осточертело, а я расплачивайся, – сказала девушка.
Ей стало жаль себя, и потому в жеманном ее тоне появились нотки благородного негодования, то ли непроизвольно, то ли она их услышала от кого-то и переняла. Ее лицо было точно смазано елеем добродетельности.
– Может, надо было мне вести дневник, а, Тель? И все записывать? Интересно, как там этот грек.
– Почему вдруг грек? – спросила мать, вспоминая что-то позабытое.
– Просто он пришел на память, – сказал юноша. – Хоть и гречонок, а неплохой был парень.
Дождь окутал серой ниспадавшей завесой дом и деревья. Если не вслушиваться, дождь казался бы несокрушимой стеной. Но шум ветра и треск горящих дров рассеивали иллюзию несокрушимости дождя и даже всякой несокрушимости вообще.
Мать вспоминала то наводнение, когда оказалось, что мебель вовсе не вросла в пол. Она забыла, какая это была радость – стоять на берегу мутной реки, когда маленькие водовороты кружились у ее ног, а в утлой лодчонке приближался несокрушимый человек, ее муж; она забыла, что все на свете проходит, вот и ее жизнь прошла, думала она, вспоминая, как мускулистый молодой грек ходил по полю, вороша дымившиеся сухие стебли кукурузы.
– Славный был паренек, – сказала она, разглядывая свои широкие и все еще чувственные руки с желтеньким обручальным кольцом на пальце. – Славный, – еще раз сказала она, будто оттого, что она повторила это слово, никто не сможет обвинить ее в том, что она что-то скрывает.
Но никто и не думал о ней, каждый был отдельной планетой или целым миром собственных мыслей.
Юноша стал побаиваться этого своего одиночества, к которому в конце концов все и свелось. Он затосковал по движению, оно бы вытеснило этот страх; он встал и вышел из кухни, пробежал под дождем мимо лачужки, где он боролся с греком, к сараю, где, бывало, отец вытаскивал его, заспанного, из ларя и стряхивал с него сон, как полову; отец сейчас, наверно, там. Они потолкуют о чем-нибудь интересном.
Отец и в самом деле был там, он увидел его, когда отступать было поздно. Нагнувшись над ведром, отец разбалтывал руками какое-то месиво. По стенам на полках стояли бутылки и банки с мазями и втираниями, оттуда иногда их сбрасывали крысы. Отец поднял голову. Он тоже мгновенно понял, что теперь деваться некуда. Как всегда в дождь, у него был накинут на плечи старый мешок, который если и служил защитой, так только моральной.
Он поднял голову и стряхнул над ведром жидкое месиво с рук.
– Тучи с той самой стороны, – отец сказал первое, что пришло ему в голову, и, стало быть, самое безопасное. – Если не кончится через три дня, значит, будет лить три недели. Плотина низкая, – добавил он. – Сорго зальет.
Для юноши разговоры о погоде, так же как об овощах и фруктах, были совсем неинтересны, даже ненавистны, но слава богу, нехотя признался он себе, что отец выбрал эту тему. Каждый из них боялся, что придется выяснять, почему Рэй внезапно появился в сарае.
Ветер все гнал косой дождь по серому полю. В шуме ветра и дождя вдалеке неслышно рухнуло черное дерево.
Сейчас, когда все кругом начало бороться за свое существование, еще вероятнее стало, что придется выжимать из себя какие-то объяснения. Пред лицом насилия души объединяются, пусть даже на почве собственной бренности.
Рэй прижался лицом к стеклу окошка, затянутого паутиной, но все же пропускавшего медлительный, перламутровый свет в темный сарай.
– Может, опять будет такое наводнение, – сказал он, – помните, вы с мамой рассказывали? Ух, и здорово, наверно, – голос его приглушало оконное стекло, – когда плывут всякие пожитки и дома сносит. Вот бы поглядеть, как дерево вырывает с корнями. Или расщепляет молнией. Говорят, разбитое молнией дерево пахнет порохом.
Отца внезапно кольнуло в сердце, и он остановился, хотя обычно находил от всего прибежище в честной своей работе, вот в этих теплых размокших отрубях, например.
– А зачем тебе это? – спросил он.
– Все-таки хоть что-то случится, – сказал юноша.
Раньше Стэна Паркера тоже весело возбуждали страшные события – до тех пор, пока он не построил свой дом. А после они вызывали в нем смятение и такое чувство, будто его обманули. Потом, много позже, когда он свыкся с этим смятением, когда он уже достаточно прожил, быть может, вот только сейчас, в этом сарае, наедине со смятенным, бунтующим юношей, который приходился ему сыном, он понял, что страшные события осветили для него другие стороны жизни, где сияла доброта и ясность многочисленных ликов бога.
Если б только он смог подойти поближе к мальчику и все это сказать, он бы сделал это немедленно, но он был тугодумом, и неловким, и руки у него были в отрубях.
Юноша огляделся, считая, что отец стоит слишком близко. Он не желал, чтобы до него дотрагивались. Знакомые смиренные стены сарая душили его, как петля. Вышибить бы эти стены ногами, а вместе с ними лицо этого смиренного человека, его отца, которого он мог бы любить, если б не мешала неприязнь.
– Надо нам вытащить тебя из этой дыры, из Бенгели, – сказал отец, словно это был единственный выход. – Зря я, наверно, тебя туда отправил.
– Кто тебя просит? – огрызнулся юноша. – Там или не там, я всегда буду к месту.
Что, впрочем, еще требовало доказательств.
И когда чуть утих дождь или его пересилил ветер, а главное, не такими тревожащими стали звуки, Рэй Паркер совершил побег из дома, когда-то бывшего для него родным. Он шагал по дороге, руки в карманах, голова опущена. Чувства, беспорядочно клубившиеся весь этот день, осели в нем тугим комком, по крайней мере на время.
Родители не сомневались, что этим дело и кончится, и были в душе благодарны за то, что все обошлось без осложнений. Пока о местопребывании и намерениях их сына не стали справляться, сначала старуха Норскотт, потом шорник.
Выяснилось, что Рэй исчез.
Однако вскоре пришло письмо из Брисбейна, в котором он писал:
«Дорогая мама!
Я сразу поехал сюда и, думаю, правильно сделал, что подался в другое место, не знаю, правильно я выбрал место или нет, но надо же было уехать, как папа сказал, только решать пришлось мне самому.
Я работаю на пароходе, что ходит вдоль побережья. Я работаю в камбузе. Кок у нас китаец, но совсем не грязный. Он подарил мне кусок перламутровой раковины с резьбой, это я берегу для тебя, тебе наверняка понравится.
Ты не унывай, мама. Ничто не бывает навечно, а в каботажном плаванье тоже кипит жизнь. Я просыпаюсь ночью и гляжу, как подъемные краны загружают пароход, а бывает, что и лошадей на скачки перевозим. Я могу, если захочу, пойти в город с тем джентльменом, что на вокзале предложил мне поступить в матросы, только я не очень хочу. Я хочу осмотреться. Ходить я могу, куда угодно. Вчера ночью мне снилось, что я плыву к островам, и море как масло, и все фосфорится, а я плыву и плыву, совсем нагишом, а вода вся светится, но не успел я доплыть, как проснулся… »