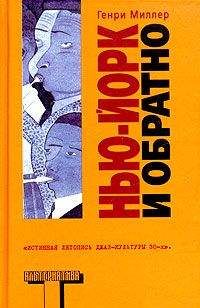Генри Миллер - Тропик Рака
Я старался разглядеть все, насколько это можно было в тусклом свете церкви. Удивительное и увлекательное зрелище. «По всему цивилизованному миру», — повторял я себе. По всему миру. Замечательно. Дождь ли, солнце, град, слякоть, снег, гром, молния, война, голод, мор — не важно, здесь это не имеет значения. Та же температура, та же абракадабра, те же зашнурованные ботинки, те же ангелочки, поющие писклявыми голосами. Возле двери я увидел ящичек для пожертвований, чтобы было на что продолжать эту священную работу и чтоб Божье благословение могло снизойти на короля и на страну, на военные корабли и взрывчатку, на танки и самолеты. Чтобы было больше сил в руках — сил, чтоб резать лошадей, коров и овец; сил, чтоб сверлить дыры в стальных балках; сил, чтоб пришивать пуговицы к штанам; сил, чтоб торговать морковью, швейными машинами и автомобилями; сил, чтобы выводить паразитов, чистить конюшни, опорожнять помойные ведра и мыть уборные; сил, чтобы писать газетные заголовки и пробивать билеты в метро. Сил, сил… Все это бормотание и надувательство — для того лишь, чтоб были силы!
Мы переходили с места на место, осматривая все с тем холодным и ясным вниманием, которое появляется после попойки. Вероятно, мы бросались в глаза, пока бродили вот так в пальто, с поднятыми воротниками, ни разу не перекрестившись и разжимая губы лишь для того, чтобы обменяться скабрезными замечаниями. Но все обошлось бы, не вздумай Филмор пройтись мимо алтаря, чего ни в коем случае нельзя было делать во время службы. Вообще он уже искал выход, но прежде все-таки хотел взглянуть на святая святых, чтоб навсегда сохранить в своей памяти. Поглазев на алтарь, мы направились к приоткрытой двери, ориентируясь на полоску света, как вдруг перед нами выросла фигура священника. Он спросил нас, что мы здесь делаем и куда направляемся. Забыв от растерянности все французские слова, мы вежливо ответили по-английски, что ищем выход. Священник молча, но решительно взял нас за руки, открыл дверь, которая оказалась боковым входом, и буквально вытолкнул из церкви. Мы скатились со ступенек в ослепительный утренний свет. Щурясь, мы сделали несколько шагов и инстинктивно обернулись. Священник все еще стоял на ступеньках, бледный как полотно и с усмешкой, напоминавшей дьявольский оскал. Вероятно, мы довели его до бешенства. Позже, вспоминая этот маленький эпизод, я понял его состояние. Но тогда, увидев его длинную юбку и маленькую шапочку, я разразился хохотом — до того это нелепо выглядело. Я взглянул на Филмора, и он тоже начал смеяться. Так мы стояли, хохоча прямо в лицо этому бедняге. Он совершенно обалдел — настолько, что не сообразил сразу, что ему сказать или сделать, но, опомнившись, сбежал по ступенькам и рысью направился к нам, потрясая кулаками и явно с серьезными намерениями. За церковной оградой он перешел в галоп. Поняв, что пора уносить ноги, я схватил Филмора за рукав и потащил прочь. Но этот идиот уперся, как осел. «Нет, нет, я никуда не пойду!» — повторял он. «Скорее! — тащил я его. — Не валяй дурака! Этот тип зол как собака!»
По пути в Дижон я долго еще улыбался; этот эпизод напомнил мне подобный же случай во время моего короткого пребывания во Флориде. Во время знаменитого земельного бума я рванул во Флориду и, как я тысячи других, здорово вляпался. Пытаясь выбраться, мы с приятелем застряли, так сказать, в самом горлышке бутылки. Город Джэксонвилл, где мы вынуждены были болтаться около шести недель, напоминал осажденную крепость. Голодранцы со всего мира, да и не только голодранцы, набились во все щели. Общежития Союза молодых христиан, Армии спасения, пожарных команд, полицейские участки, гостиницы и меблирашки — все забито. На всех стенках объявления: «Свободных мест нет». Джэксонвиллцы зачерствели до такой степени, что казалось, они ходят в броне. Опять возник старый вопрос, что бы пожрать и где бы приклонить голову. Жратва приходила поездами с юга — апельсины, грейпфруты и всякая дивная снедь. Мы слонялись возле товарных составов в поисках гнилых фруктов, но даже и этой дряни было немного.
Как-то вечером, в полном отчаянии, я потащил моего приятеля Джо в синагогу. Это была реформистская синагога, и раввин произвел на меня благоприятное впечатление. А пение — эта пронзительная еврейская жалоба на судьбу — захватило меня всерьез. Как только закончилась служба, я направился в кабинет раввина и попросил его уделить мне несколько минут. Он был вежлив со мной, пока не узнал, по какому поводу я к нему обращаюсь, а узнав, смертельно перепугался, хотя все, о чем я его просил, это небольшое вспомоществование мне и моему приятелю Джо. У него было такое выражение лица, как будто я предложил ему сдать синагогу под кегельбан. И что хуже всего, раввин спросил меня напрямик, еврей ли я. Услышав отрицательный ответ, он был оскорблен до глубины души. Почему же я тогда обращаюсь к евреям за помощью? Я наивно ответил, что у меня всегда было больше доверия к иудаизму, чем к христианству. Слова эти я произнес так тихо, как будто говорил о чем-то постыдном. Но в общем я сказал правду. Однако раввина она не тронула. Ни капельки. Он был в ужасе и, чтобы отделаться от меня, написал записку в Армию спасения. «Вот куда вам надо обратиться за помощью», — сказал он сухо и отправился пасти свое стадо дальше.
В Армии спасения, как я и ожидал, нам ничем не могли помочь. Если бы у нас было по двадцать пять центов, нам дали бы матрац на ночь. Но у нас не было даже пяти центов на двоих. Пришлось отправиться в парк и залечь на скамейке. Шел дождь, и мы накрылись старыми газетами. Мне кажется, не прошло и получаса, как на дорожке появился полицейский и без всякого предупреждения задал нам такую трепку, что мы, вскочив, бросились прочь, пританцовывая по пути, хотя нам было не до танцев. После побоев я чувствовал себя настолько несчастным, удрученным и озлобленным, что, будь у меня бомба, я, наверное, взорвал бы здешнюю мэрию.
На следующий день, чтобы свести счеты с этими гостеприимными сукиными детьми, мы заявились ни свет ни заря к католикам. На этот раз я решил, что вести переговоры должен Джо. Он был ирландцем, да и говорил с легким ирландским акцентом. Кроме того, у Джо были детские голубые глаза, и он умел при желании пустить слезу. Дверь открыла монашка в черном. Однако она не пригласила нас войти, а попросила подождать в прихожей, пока доложит святому отцу. Тот появился через несколько минут, шипя, как паровоз, и спросил, почему мы беспокоим почтенных людей в такую рань. Мы невинно ответили, что нам нужно немного поесть и где-нибудь переночевать. Тогда святой отец поинтересовался, откуда мы родом. Из Нью-Йорка. Ах, из Нью-Йорка! Вот, голубчики, и отправляйтесь туда, не теряя ни минуты, прямо сегодня! После чего эта жирная свинья с репообразной рожей захлопнула дверь прямо у нас перед носом.