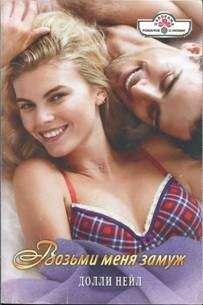Александр Терехов - Каменный мост
– Только не предавай меня больше! Мне очень больно.
– Хорошо.
Она осторожно опустилась у меня за спиной, погладила по голове, стала разминать шею, плечи, лопатки, иногда припадая и замирая губами на коже.
– Засыпай, любимый…
– Да. И ты.
– Мне еще долго не спать. Пусть тебе приснится море.
– Хорошо.
– Посылаю тебе поцелуй. Лови!
– Да.
– У тебя грустный голос. Ничего не случилось?
– Нет. До завтра.
– До завтра, любимый.
И раздавил кнопку, как ужалившее насекомое. Та спросила:
– С работы? – вцепилась и повалилась, сунув в мой рот пресный язык, со свежей отдушкой какой-то карамельки. Ничего не хотелось, я очищал, доставал наружу изжеванный целлюлитом зад, выпитые, низко потекшие к пузу груди, потрогал днище, заросшее переползающим на ноги мхом, мы кряхтели, ворочались, терлись, она растерянно и брезгливо трогала меня и опять начинала суетливо шлепать губами по животу и груди, бегло, словно метила землю, и трогала опять: нет? еще не готов? – я смотрел на шторы и вспоминал все незабываемые узоры: лапчатые ромбы на ковре над родительской кроватью, похожие на многовесельные корабли завоевателей мира, на звездолеты коммунистической державы; сцепленные углы скелетной твари на линолеуме в приемной ненавистного стоматолога; оленьи узоры на свитере девушки, которой нет, вытоптанные на снегу буквы, – и предчувствовал последний узор: угловатые повороты цементных бороздок меж кафельных плит, гудящие равномерно расположенные пятнышки на плафоне ламп дневного света, истертые буквы «кнопка вызова дежурной сестры»… «Потеряла квалификацию», – выдохнула она, и я тронул ее за плечо: «Перестань, не надо. Рукой». Она расселась, как над прополочной грядкой, пришептывая: «Милый мой, мальчик мой, успокойся, все хорошо». В духоте, сквозь паучью боль, распирающуюся слева, в затылке, я старался хоть что-то представить, перебить, заслонить, что не сдохну, как и все, я свалил ее и насел, разгоняясь до бешеной частоты швейной машины, – протиснуться к выходу, из земли, – и, поймав опухшую, ненадежную плотность, впихнул, запихнул, затолкал пальцами – она сразу выгнулась поудобней, собираясь проехаться на спине в сторону рая, долгих удовольствий, в свою вечность, я коротко ткнулся раз, два, три, закряхтел, закашлял и выдавил из себя какую-то тошнотворную росу, вздохнул с тоскливым воющим выдохом и упал рядом, пустым от всего, и в пустоте вечным долгом поглаживал ей тряпичную грудь, как гладят надоевшую собаку и руки после пахнут… «Милый мой, мальчик… Мой мужчина… Желанный мой, – все, что прочла, что сочинила, – ты же отдыхаешь у меня?». И попросила собственным голосом:
– Расскажи мне обо мне.
– Жила одна девочка, – меня словно включили. Немного и – сразу сваливать. – Родители научили ее главному: любить и прощать. И не зависеть от ветра. От дождя. От погоды, короче… оставаться. А она все время хотела жить у моря… Но никак не могла увидеть дорогу туда. И море никогда не видела. Море оставалось само по себе – она сама по себе. Жила, никому не открывалась. Вот так. И никто из тех, кто жил рядом, к морю не стремился. Даже не думал, что оно есть. Но девочка про море не забывала. Ей казалось: надо подождать и что-то изменится, ее заберут, – я помолчал, душа зевоту. – Жизнь ее сложилась непросто. Девочке пришлось быть сильной и очень много делать для слабых мужчин. Но для того, чтобы пойти к морю, нужна была какая-то другая сила. Не такая. Она не знала: какая, где ее взять? Шли годы, девочка всем… помогала. Девочка росла куда-то – в другую сторону, но смотрела все же на море. А оно – оставалось там…
– Саша, где же мне взять силы?!
Еще осталось постоять прижавшись, не видя, родить обязательные слова, пересчитать ступеньки и ткнуть черную кнопку, выпускающую с пищаньем из подъезда, и разорвать адрес и код над пастью ближайшей урны. И еще (ненавижу!)…
– Алло. Да. ДА!
– Извини, пожалуйста, я, наверное, разбудила. Александр Наумович не может до тебя дозвониться – он нашел телефон Фишера. Я подумала, может, это срочно…
– Это не срочно.
– Я не знала. У тебя все в порядке? Ты дома?
– Я же сказал: дома! Я сплю, я дома! Где мне еще быть?!
– Не злись, пожалуйста, – Алена тихонько захныкала. – Я так перепугалась, позвонила на городской – ты не берешь трубку. Я думала, что-то случилось. Может, тебе плохо…
– Я просто заснул. Я сплю. Все! Хорошо! – и затряс неотключающийся мобильник, как школьный колокольчик над ухом, клади трубку, тварь!!!
Она подождала, она уныло спросила:
– Почему ты не брал городской? Я так долго звонила. Ты не отключал сигнал? Давай я тебе перезвоню – проверим.
– Телефон отключили. Потеряли какую-то мою квитанцию. Уже третий день. Хватит меня проверять! Господи, как я устал от этого гестапо!
– Я так испугалась. Я даже позвонила на телефонную станцию, там проверили номер – он работает.
– Не знаю, что там у них работает. Гудка нет. Может, что-то в подъезде. Ты можешь успокоиться на сегодня?
– А кто тебе сказал, что потеряли квитанцию?
– Алена, все! Хватит! Я дома! Я один, я с тобой, я тебя не предаю, – я забился в щель меж гаражей, ржавые стены, подальше от шоссейного редкого рева, метельных завихрений. – Я дома. Успокойся. Дай мне поспать, у меня тяжелый день!
В трубке кончились слова и шорохи. Там, далеко, за подушками, шторами, балконными дверьми, прячась от ближних своих, кто-то тихонько рыдал, задирая слепое лицо к небу, перекусывая слезы, ударяясь плечами о стены, – я долго вслушивался, словно в канализационное бульканье, пока она не застонала, не забилась в припадочном бормотании.
– Алена. Милая. Ну, хватит – я дома. Я клянусь. Честное слово. Клянусь своим здоровьем, – она задыхалась, стоны, вдруг утробный вой!!! – Я дома. Успокойся… Хватит! Я один. Я… Клянусь здоровьем своих детей.
– Никогда так не говори, – быстро, насморочно откликнулась она сквозь сопли, ожив, разогнувшись. – Я тебя прошу.
– Ничем же другим тебя не прошибешь!!! Ты же вбила себе в голову, что я все время занят только одним!
– Лишь бы с тобой ничего не случилось. Как же я испуга-алась, – и она уже облегченно заплакала опять.
– Хватит, милая, хватит, ну, хватит…
Я ловил такси, провалился до щиколотки в лужу, и первая затормозившая машина окатила меня до пояса ледяной грязью. Я зачерпнул с крыши пирожок снега, я тер губы, я стирал чужое, жрал снег; хлюпая, вылез, прозевав свою арку, пропахал обочину и сел в сугроб – я сидел на дне стужи под воронами, готовясь разочаровать почуявшего поживу милиционера, спешившего с той стороны, и тер, стирал царапающимся снегом помаду, следы пудры, блестки, запах и вкус животного лона; за домашней дверью, не включая света, нырнул в кафельный угол, где живут зубные щетки, нагнулся над ледяной пустотой с дыркой слива, и словно кто-то сказал из зеркала над головой: молодец, молодец… В кухонной тьме, под хруст отклеивающейся бумаги, рассматривая, как звенит телефон, как внутренним вздрагиванием зарождается звук, как синим вспыхивает окошко «Новые вызовы», с одного номера – восемнадцать.