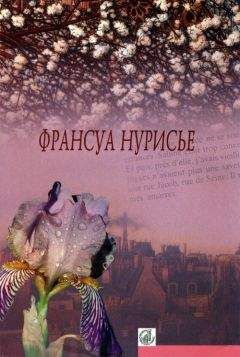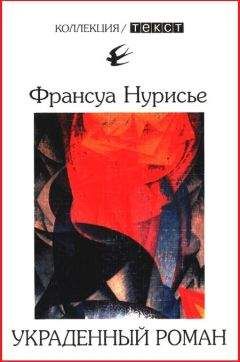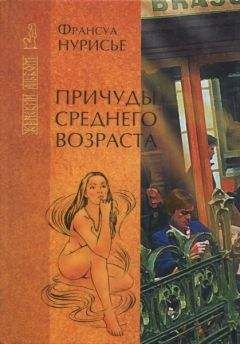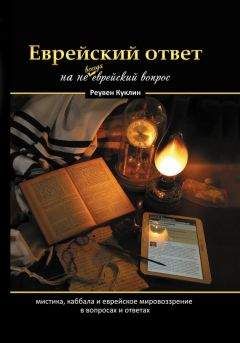Франсуа Нурисье - Бар эскадрильи
Скоро уже два года, как я наблюдаю за жизнью Жозе-Кло. У нас никогда не бывает в избытке общих тем для разговора, а уж до лета-то их и вообще не было. Я ее принимала за дочь Жоса, а дочери шефов никогда не стимулировали моих чувств. Я это уже говорила: она едва касалась стен, с восхитительным телом, с огнем под слоем пепла, и т. д. Мне это не слишком нравится. Я вспоминаю каждую деталь ее встречи с Блезом. (В тот вечер она зажгла не Боржета, а Блеза. Вот разница между нею и мной: я слышу только истинное имя мужчин, каковым является фамилия, мне не нравятся их «малые имена», имена, даваемые при крещении. Жос здесь исключение. Но Жос никогда не будет одним из моих мужчин.)
Мы пришли с Мезанжем и Боржетом в то время, когда женщины надевают платья, из отеля «Пальмы» к дому Грациэллы. Я хотела было провести их тропинкой таможенников, но они возмутились. Еще чего, после шести часов тяжелого труда! Изо дня в день все это лето Боржет прибавлял в значительности. Он был из тех мужчин — и кто бы только мог догадаться об этом в Париже, глядя на него, упакованного во фланель? — которых море и солнце украшают. Взгляд его с каждым вечером становился все более бархатистым, а подъем ноги приобретал цвет поджаристой хлебной корочки. Каждый предмет он осматривал взглядом человека, который открывает для себя свою власть над миром. Жозе-Кло прибыла накануне, еще хрупкая, несмотря на уже появившийся летний загар, гибкая и ускользающая, как все жены, которым супруг уделяет не слишком много внимания. Она вышла на террасу последней, одетая в свою искреннюю наивность и в черный лен. Боржет смотрел на нее.
Мужчины, которых я волную, видятся мне толстыми кусками мяса, которые вот-вот начнут сочиться кровью. Это животное, органичное, молчаливое. Когда Боржет оказался напротив Жозе-Кло, послышался быстрый и сухой треск искр. Он больше никого не видел и не слышал. Он зажегся, напрягся с почти драматической интенсивностью возбужденных мужчин, для которых все вдруг теряет значение, кроме той жертвы, которую они только что заметили. Наш Боржет! Свидетели кудахтали от возбуждения. Мазюрье был в Париже; Боржет был холостяком: ни одной досадной помехи, которая могла бы представлять угрозу для этого любовного дельца. Ни одной оглушенной и агонизирующей жертвы, от которой надо отводить взгляд. Старый закон лета царил в палаццо Диди Клопфенштейн, на террасе Грациэллы и в ее салоне с покрытыми белым полотном диванами, с огромными витринами из нефрита и коралла. Эти бледно-зеленые оттенки твердого камня, эти красные непристойные цвета внутренних органов, морской плоти или половых органов символизировали в моих глазах (еще достаточно ослепленных) смесь сухости и удовольствия, в которой жила клиентура Грациэллы. Реализм и чувственность. Но вот что меня особенно поразило в этом коротком замыкании, при котором мы присутствовали: Жозе-Кло, еще минуту назад неприступная — неприступностью тех женщин, совершенство туалета которых как бы отвергает саму мысль о каком-либо срыве — стала абсолютно естественно и с особым подъемом играть роль интриганки. Чувствовалось, что у нее в инстинкте заложено умение притворяться, лгать, быть жестокой или забывчивой. Прекрасная метаморфоза! Боржет, наш скромник, всегда, казалось, просящий прощение за какую-то свою удачу, мгновенно определил эту уязвимую жертву.
Мать Жозе-Кло весь вечер в упор обстреливала Боржета шутками, не спуская глаз с дочери, как бы беря ее в свидетели своего блеска и жалких оборонительных возможностей обреченной жертвы. Но Жозе-Кло, глядевшая на присутствующих с непроницаемым лицом и поджатыми губами, как еще совсем недавно в коридорах на улице Жакоб, неожиданно загоралась, когда к ней обращался Боржет. Ей было глубоко наплевать на переживания бедняжки Клод. Однако в конце концов она сослалась на то, что ей нужно сходить в палаццо, что она обещала Колетт Леонелли книгу, и ушла. Десять минут спустя удалился в состоянии невесомости и Боржет, огорчив всех и вызвав всеобщее оживление.
Даже я, столь часто образовывавшая пару то с одним, то с другим — причем иногда эти пары были настолько эфемерны! — я до сих пор продолжаю восхищаться той легкостью, с которой мужчина и женщина спариваются. Их дерзостью, их бесстыдством, тем удовольствием, которое они испытывают, изображая смущение и провозглашая на сто ладов, что они вместе. «Отныне Икс и Игрек вместе» — ничего не значащие слова, без цвета и запаха, а ведь выражают они пламенную реальность. Когда девушка падает в объятия мужчины, то от этого движения ее одежды какой-то момент развеваются в воздухе, наполняются неким таинственным ветром. Этот порыв волнует меня больше, чем все последующие жесты, проистекающие из этого первого. Девушка, отдающаяся мужчине, похожа на «Марсельезу» Франсуа Рюде, — ну, более или менее. Хотя лицо обычно бывает менее свирепым.
Сегодня, в этот июльский полдень, когда правительство выступает перед депутатами, Мезанж нам дал выходной. Ожидалась программная речь. Собираются ли они национализировать Картье, вина Шампани, чемоданы Вюиттон, высокую моду, аспирин, недвижимость, загородные клубы, лыжные станции, рэкет в бассейнах и на чартерных парусниках? Все старались проникнуть в намерения этого толстого человека с Севера с его сентиментальными и звонкими речами, с его сердитым, возмущенным и доверчивым лицом, возведенным на тройной пьедестал из жира. Ходили разные слухи, поддерживаемые со смехом даже теми, кому они угрожали. Я это поняла — настоящие богачи редко воспринимают жизнь трагически. Мы поехали к Грациэлле. Но единственный в Талассе телевизор располагался в той комнате, возле кладовой, где в самые жаркие часы дня и вечером собиралась прислуга. Узнать там, под непроницаемыми взглядами метрдотеля и шеф-повара, под каким соусом тебя скушают, не было никакой возможности. Тогда мы понеслись в Сан-Николао, где Леонелли, как только приехала, сразу взяла напрокат три телевизора. В перегретой гостиной — ветра не было и утром забыли закрыть ставни — около дюжины гостей Колетт прилипли к экрану. Леокадия Даньелз, чей муж находился в Лос-Анджелесе, вызвала его по телефону и держала на другом конце провода, положив аппарат себе на колени, вполголоса повторяя либо переводя банкиру, слово в слово, заявления премьер-министра. Время от времени слышалось, как Даньелз ворчит там у себя в Калифорнии своим ужасным голосом: «Они Меня национализируют, да или нет, черт возьми? Непонятно, все это непонятно!» Леокадия, невозмутимая, зажимала трубку между плечом и ухом, зажигала сигарету и вновь принималась нашептывать. В те мгновения, когда из-за шума в Ассамблее выступление прерывалось, кто-нибудь спрашивал у миссис Даньелз: «Но ведь, Леокадия, вы же американцы… (или «живете в Монако», или «являетесь подданными принца Вадуца»: похоже, никто точно не знал). Вас же это не касается!»
— Увы, дорогие мои, вы очень милы, но, видите ли, мы тоже французы… Трудно поверить, да? Дани, похоже, был таким героем во время боевых операций в 1944-м году, что после войны ему всучили этот французский паспорт, а он с его сентиментальностью его принял. Ну а слово за слово, половина его дел стала французской… Банк, типографии, закусочные на автострадах, отели…
— Даже отели!
— Ну, да… ты знаешь, дорогая, это так шикарно, эти французские названия, сомелье в их черных фартуках, соусы, гравюры Версаля, все такое прочее… Ты же помнишь, как Дани любил Генерала…»
Она закрыла глаза и говорила тихим голосом, как бы поверяя что-то, лаская губами трубку: «Нет, Дани, я не рассказываю всю твою жизнь, но это же правда, ты любил Генерала, разве не так? Сейчас… (она открыла глаза)… они как мальчишки, понимаешь, хлопают откидными крышками своих столов, кричат… Это не очень интересно. Внимание, он опять начинает…»
В глубине салона иногда проходила, будучи не в состоянии оставаться на одном месте и бросая презрительные взгляды, Сильвена Бенуа, сделавшая свой выбор в пользу революции. Должно быть, она повторяла про себя: «Я львица в клетке»… Или, возможно: «Я разъяренная пантера»… и имитировала Мелину Меркури, которую видела однажды у друзей, когда та разыграла в натуре потрясающую сцену ярости. В раскаленном воздухе кружили мухи. В соседней комнате неаполитанцы Марко и Колетт стучали по столу картами, но время покера и выпивки еще не подошло, и они с легким осуждением следили за своими друзьями, ловящими каждое слово этого провинциального оратора. Единственный, кому в их глазах удавалось сохранить лицо, был старый Гратеньо, вдовец, отошедший от всех своих руководящих должностей, защищенный своими миллиардами вне подозрений, он приехал из своего загородного замка к Грациэлле, которая приходилась ему племянницей через бог знает какие загадочные генетические и светские связи. Он смотрел на экран издалека, без очков, но держа руку у уха и направляя его в сторону голоса, что придавало ему вид слона, подстерегающего охотников. «Болваны! — гудел он иногда, — Ах, какие болваны!», поскольку любая, даже самая невинная фраза премьер-министра обладала способностью разжигать его ярость. «Гектор очень хорош, — оценил Шабей. — Какая форма! Сколько ему лет? Восемьдесят три, восемьдесят четыре? Да! Он не из тех мальчиков из хора, которые дают себя обобрать…» Но Эктор Гратеньо — в белых носках и белых туфлях, с белыми, отдающими голубизной волосами, такого же нежного оттенка, как и его рубашка — ничего не слышал. Ругательства выходили из него беззлобно, с правильными интервалами, как плевки лавы из старого вулкана. Я пошла его поприветствовать, и его острый взгляд изучал меня с беспощадной жесткостью, отточенной за шестьдесят лет на чтении контрактов, на прощупывании противников, женщин, своей собственной семьи. «Авиапромышленник!» — подумала я. В первый раз я видела, видела живьем возможную модель для персонажа, на роль которого Боржет наметил Лукса. Было бы хорошо привезти сюда на несколько дней будущих исполнителей ролей в сериале для стажировки, для практической работы, для фотосафари. «Болваны!..» Грациэлла обволакивала своего дядю умиленным взглядом. Боржет бесшумно подошел ко мне. «Ты тоже об этом думаешь?» — прошептал он.