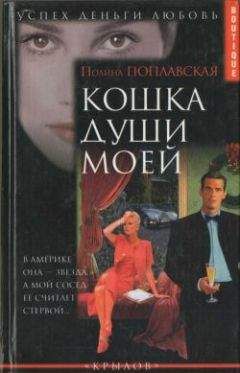Эдмонда Шарль-Ру - Забыть Палермо
И Джиджино удивленно приоткрыл глаза. Он быстро оглянулся и увидел себя лежащим на земле. Решил, что умирает, и снова потерял сознание.
Как в тумане слышал он шум, чьи-то шаги, голоса. Ему показалось, что на плече у него лежит чужая рука, и он застонал.
— Опять в обмороке, — пробормотал голос.
И Джиджино понял, почему он ничего не чувствует.
Самым неприятным было что-то мокрое, что текло по спине. Пот? Нет, пот не такой липкий. Значит, кровь.
— Надо заткнуть, черт возьми…
Кладут повязку, пытаются прекратить кровотечение, что-то говорят.
«Меня, кажется, перевязывают», — подумал Джиджино.
Он попытался совладать с головокружением, силился ровней дышать и медленно приходил в себя. Увидел подвал, в который через отдушину проникал свет и запах рынка — едкая смесь соли, прокисших водорослей и влажных корзин для рыбы. Это были знакомые запахи. Он повернул голову, осторожно оглядел потолок, а потом заметил человека, черные очки которого так дико выглядели в этом погребе. Он подумал, что ошибся. Но темень не была уже такой плотной, и сомнение отпало: это был тот самый американец, который хотел убить его, теперь он стоял рядом и улыбался. И улыбка у него была другая, робкая, почти смущенная, не такая самоуверенная, как прежде.
— Мне очень жаль, — сказал Кармине. — Я в самом деле очень сожалею.
— Меньше, чем я, — злобно ответил Джиджино. Но он тут же сдержался, подумав: «Злиться сейчас не время», и договорил: — Ну ладно, привет, — уже более примирительным тоном, вежливо, мягко, как молодой человек, пришедший в гости.
— Привет! — ответил Кармине.
И между Джиджино и тем, кто ударил его ножом, начался почти спокойный разговор.
— Зачем мы здесь? — спросил Джиджино.
— Люди помогли нам укрыться.
— На рынке была полиция?
— Да.
— А, я так и понял, — сказал Джиджино.
— Что ты понял?
— Эти люди думали, как себя выручить.
— Выручить? От чего?
— От всего… Мы в неподходящее время вдруг стали драться у их дверей. — Джиджино подумал и добавил: — Как бы то ни было, они правильно поступили. Я здорово рисковал.
Кармине огрызнулся:
— Так ведь я еще больше тебя рисковал, а?
Джиджино здоровой рукой показал, что это не так.
— Нож-то был у меня, — опять сказал Кармине.
— Ах, это! Драка — это пустяки. Тут найдешь, как отбрехаться. — Джиджино вздохнул. — У меня дело серьезней. Я торгую без патента. Пять раз попадался. Здесь не такая уж легкая жизнь, понимаешь?
Кармине молчал. Сердце его наполнилось глубокой жалостью, и это необычное чувство захватило его целиком. Он не мог без сочувствия смотреть на этого подростка, лежавшего перед ним, опершись на локоть, как сраженный на арене гладиатор. Какой серьезный взгляд, и эта горькая складка у рта при таком вызывающем голосе и нраве скверного мальчишки. Забыть бы жалость и сменить ее на злость, которой он был прежде объят. Вот что требовалось Кармине. Но он с трудом проговорил:
— Знаешь, парень, ты вывел меня из себя.
Но не почувствовал злости. Только усилилась щемящая душу нежность, поднимавшаяся в Кармине.
* * *Продукты в погреб спускали сверху на веревке.
Каждый раз, когда открывался люк, чтобы спустить вниз корзину с едой, раздавались ободряющие голоса:
— Ну как там, все в порядке?
Или же:
— Ну что, мужчины, дело идет на лад?
— Появлялись лукавые лица, из люка они видели решительные, блестящие глаза, кто-то подмигивал и говорил:
— У входа четверо стоят. Но увидите: сдрейфят они. Как только они уберутся, мы вам сообщим.
И люк захлопывался.
Можно было подумать, что жители этого дома занимаются только тем, что обманывают полицию и срывают ее планы.
Однажды из люка появился доктор. Как с неба свалился. Сказал, что живет в этом квартале и обо всем знает.
— И потом, — сказал он, — я бываю тут и там, я привык.
Он ничуть не был смущен. Пациенты, спрятанные в погребе, его не пугали, может, работа в подвале была его тайной утехой.
Джиджино он осмотрел с большим вниманием.
Нож вошел под лопатку. Рана была серьезной и очень глубокой.
— Он потерял много крови, — сказал обеспокоенно доктор. Потом посмотрел на кончики своих ботинок, на землю и добавил: — Сделать бы переливание.
И все повторял: «Переливание, переливание…», продолжая глядеть на свои ботинки, как будто оттуда могла хлынуть нужная больному кровь.
Кармине выслушал все указания с видом опытной сиделки. Нужно было поить раненого, делать ему в определенные часы перевязки. Доктор рекомендовал полную неподвижность. Потом справился, не собираются ли они что-нибудь передать своим родным. Он бы смог им помочь, пусть скажут.
— Моя жена в «Палермо-Паласе», — сказал Кармине.
— Знаю, — прервал его доктор. — Портье — мой друг. Сообщим. А ты?
Джиджино пожал плечами.
— Быстрей, — настаивал врач. — А то твоя мать кинется искать тебя по полицейским участкам. От нее неприятностей не оберешься, лучше предупредить.
Джиджино зло процедил сквозь зубы:
— Ни матери, ни адреса.
Тогда доктор жестом показал: «Ладно, ладно. Ни о чем больше не спрашиваю».
Люк открылся, и врач исчез, оставив им целый арсенал дезинфицирующих средств.
* * *Джиджино принял как должное заботы своего бывшего врага. Он давал приказания, а Кармине выполнял их с быстротой человека, немного озадаченного, но сознающего свою вину.
Когда Джиджино скверно себя чувствовал, он опирался на локоть и сердито брюзжал:
— Когда мы выберемся из этого морга?
Но, даже ворча, он обращался к Кармине на «вы».
— Вы чересчур нажимаете с этим йодом…
— Я?
— Да, вы.
И Кармине разбавлял йод, разводил его водой. Он присаживался на корточки у ног раненого, и ему было тяжело видеть этот полный затаенного страха взгляд. Он пытался дезинфицировать рану. Но из-под кожи выступала кость. Со множеством предосторожностей, чтоб не усилить боль, Кармине двигал руку мальчика и сам при этом мучился так, как будто у него самого выступила кость и текла кровь по спине.
Странно, но Джиджино имел над ним особую власть. Кармине еще не доводилось встречать существо столь надменное, несмотря на безвестность, и столь свободное, невзирая на жизненную нужду. Даже в глубине этого погреба Джиджино ощущал малейшие перемены ветра и вдруг заявлял:
— Сколько мороженого сожрут сегодня туристы!
Он нервничал, злился, упрямился, он цедил слова сквозь зубы.
— А ты откуда знаешь? — спрашивал Кармине.
И Джиджино молчал, оставаясь неподвижным, по-прежнему опираясь на локоть, как будто следил за приметами, которые он один мог заметить.
— Откуда я знаю? А вот…
И он показывал на зыбкую тень на стене, прислушивался к далекому хлопанью ставен, замечал, что вечером прохлада не пришла, и кричал: «Да что ж вы, не видите, ветер изменился?» — как будто это могло их чем-то обрадовать, как будто эта тень на стене и хлопанье наверху могли его заставить забыть о крови, текущей по спине. Так ли уж было важно знать в этом погребе, откуда дует ветер?
— Ветер стихает, мосье, поверьте мне…
И Кармине верил. Джиджино раскрывал ему свои секреты, свою жизненную мораль, он нередко утолял свой молодой голод там, где был хилый забор или обрушилась садовая стена, за которой зрели гранаты, грейпфруты, виноград… Но ветер был неизменной темой, то он был нужен, то все портил, то он причинял лихорадку и плохой сон, к нему надо привыкать, как к нужде, с которой никогда не покончить.
Жизнь казалась Джиджино легкой. Только успевал сказать: «Голод что-то одолевает» — и тут же принимался есть. После первого завтрака сразу засыпал, как-то беспечно валился набок, и Кармине клал его голову к себе на колени. Смотря на этого свернувшегося, как дитя в материнском лоне, мальчишку, Кармине представлял, каким было его детство. Это было как открытие, как внезапное озарение. Джиджино рассказал ему про себя, и многое для Кармине прояснилось.
«Это мой друг, мой брат, — думал он. — Как же я раньше не догадался?»
Он старался поддержать раненое плечо мальчика, сделать удобней его позу. Кровь, сочившаяся через повязку, стоны, вырывавшиеся во сне из этого гордого рта, волновали Кармине. От гибкого, сонного, одинокого тела, как от щенка, веяло деревенским запахом. Кармине долго не мог определить, чем именно. Ему казалось, что Джиджино пахнул садом, мускусом, корицей, сильным и чистым запахом. Но когда он обнаружил в карманах мальчика лепестки жасмина, заметил, что вся одежда пропитана их ароматом. Вот чем пахло от Джиджино.
Джиджино бредил, и Кармине не всегда разбирал о чем. Раз он услышал слово «голоден», в другой раз у мальчика дергались ноги, он стучал своими босыми пятками, будто удирал от кого-то, и эта лихорадочная борьба с кошмаром мучила Кармине. Он почувствовал себя ответственным за этого страдающего подростка, голова которого лежала на его коленях, за его болезненную испарину, за его горькое детство, за то, что этот детский рот уже перестал улыбаться. Сильней, чем родина, породнила его и Джиджино эта подвальная камера, робкий свет, просачивающийся через отдушину, глухой шум там, наверху, на ночном рынке, чем-то напоминающий лошадиное фырканье. Кармине вспоминал все собственные горести, обиды, жизнь в Нью-Йорке, унижения, муки оскорбленного самолюбия. Он шептал: