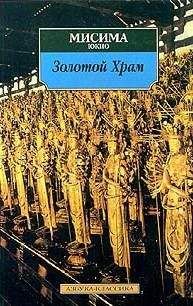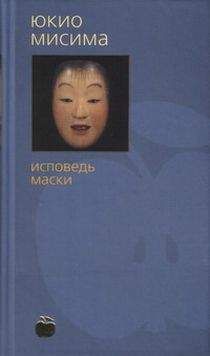Ричард Аппиньянези - Доклад Юкио Мисимы императору
Увлажняя лоб Мицуко и давая ей выпить подслащенной воды, я вспоминал ночи, которые проводил у постели Нацуко. Я вновь ощутил себя запертым в тесном пространстве комнаты, в которой лежала больная. Но на сей раз это была не спальня бабушки, а палата сестры в инфекционной больнице. Причиной смерти Нацуко стало кровотечение прободной язвы. И вот теперь Мицуко, в свою очередь, умирала от кишечного кровотечения.
– Ей недолго осталось жить, – сказал утомленный доктор. Он даже не заметил, как жестоко звучат его слова.
И все же я никак не мог поверить, что Мицуко умрет. Она лежала с открытыми глазами, ее дыхание было затруднено. Я взглянул на ее рот, походивший скорее на выжженный кратер гейзера, из которого должна была ударить струя крови, и поцеловал Мицуко в пересохшие губы. Последние слова сестры навсегда врезались мне в память. Она произнесла их отчетливо, в полном сознании.
– Спасибо, брат, – промолвила Мицуко. Она благодарила меня за то, что я убил ее.
ГЛАВА 10
ВЕРХОМ НА ТИГРЕ
Зеркало, Драгоценный камень и Меч являются императорскими регалиями, священными семейными реликвиями ста двадцати четырех императоров, сменявших друг друга на троне в течение двадцати шести столетий. Они считаются не просто символами, а свидетельствами божественности. В соответствии с этими эмблемами мой доклад императору разделен на три части. Я не пытаюсь создать новую книгу, я всего лишь стремлюсь объяснить эти три понятия – Зеркало, Драгоценный камень и Меч. Эти три слова – самая загадочная троица в мире, потому что они являются диалектикой богословия.
– Не кажется ли вам порой, Тукуока-сан, что отчаяние Мисимы достойно сожаления? Что он слишком резок? Резок и смешон. Поскольку Мисима является наглядной иллюстрацией того, как далеко может зайти человек, пытающийся восстановить свою веру? Направленные на это усилия показывают, что мы все далеки от религии и наша вера безвозвратно потеряна. И, конечно, я жалок и смешон в своих бесполезных попытках восстановить то, что невосстановимо. В этом, пожалуй, мне нет равных.
– Горе рано или поздно проходит. Но человек остается неисправимым фантазером. Он придумывает сказки в духе Оскара Уайльда об императоре, который скачет на белом коне мимо толп преданных ему молодых людей, падающих на колени в снег, и призывает их вспарывать себе животы во имя любви к нему. Неужели Мисима хочет, чтобы мы приняли эту религиозную фантазию?
Притворство… Все это пустое притворство. Я не давал такого интервью корреспонденту газеты «Асахи симбун» Тукуоке Ацуо, хотя мечтал дать. Признаю, что я действительно встречался с Тукуокой Ацуо в Бенаресе утром 17 октября 1967 года, но наша беседа проходила не так, как мне бы того хотелось. Я был охвачен желанием на языке танца передать сокровенную суть моей жизни, но не посмел сделать это в присутствии репортера. Моя робость еще раз доказывает, что человеческий дух по своей сути трагикомичен. Человек может решиться на самоубийство, но он так и не сумеет нарушить условности, которым подчинена жизнь каждого из нас.
Я слишком хорошо знаю, почему Юкио Мисима смертельно устал играть свою роль. Езда верхом на тигре не могла длиться бесконечно долго. Мисима был не в состоянии постоянно притворяться здравомыслящим человеком, солидным писателем, старающимся поддержать свою популярность, свой успех. Он все время испытывал искушение выплеснуть свою фантазию на публику, которая в ответ сразу же отвернулась бы от него. Как часто в течение этих двадцати пяти лет в часы ночных бдений за письменным столом мой скептицизм наталкивался на пьянящий эгоизм Мисимы, который толкал его на всякого рода безумства! Порой ночью бывают минуты, когда лихорадка эстетического карантина доводит Мисиму до исступления, до состояния бреда, в котором писатель приходит к опрометчивому решению проверить на прочность то, чего ни в коем случае не следует проверять, – преданность читателей.
Постоянная лихорадка Мисимы, которая охватила его в феврале 1945 года, если можно так выразиться, оставила свои следы на снегу.
Впрочем, это не имеет никакого значения. В конце концов я пишу книгу, которую пишу. Она похожа на все другие мои книги, хотя в ней есть особенность. Она будет последней. Я заканчиваю писать. По моему замыслу, конец этой книги совпадет с концом моей жизни. А моя жизнь окончится тогда, когда я сделаю последний стежок на шве моей открытой раны – литературного творчества, навсегда закрыв ее.
Наверное, я должен испытывать сейчас чувство облегчения, а возможно, даже преисполниться ликования оттого, что заканчиваю наконец огромный многолетний труд. Но я не чувствую ни облегчения, ни удовлетворения. Я испытываю сейчас страшную усталость и опустошенность. Писателям хорошо знакомо это чувство. Оно наступает в конце работы над книгой, когда ты отдал ей все лучшее, что было в тебе, и вдруг понял, что так и не удалось сделать ее убедительной, воплотить до конца свой замысел. И она пополнит ряды бессмысленных книг, наводнивших мир, которые называют художественными произведениями.
Усталый и разочарованный тем, что многое не удалось в моей жизни, я почти потерял желание сводить счеты с ней. Мне кажется, я похож на дамскую перчатку, вывернутую наизнанку и брошенную. Человек не обретет покоя даже тогда, когда будет абсолютно уверен, что написал шедевр. Само слово «шедевр» кажется мне нелепым. Если вдумаешься в то, что за ним скрывается, сразу и не поймешь его уродливую сущность.
Я всегда находился рядом со смертью. Какой смысл имела для меня жизнь? Мой учитель Хасуда Дзенмэй подчеркнул вот эти строчки в «Хагакурэ»: «Человек не может совершить великий подвиг в обычном состоянии духа. Для этого нужно стать фанатиком и воспитать в себе тягу к смерти».
В книге, написанной мной двадцать лет назад, я признавался в том, что «нельзя отрицать склонность моего сердца к Смерти, Ночи и Крови». Что скрывается за словами «Смерть, Ночь и Кровь»? Это своеобразный код. Если его расшифровать, то окажется, что речь идет о Зеркале, Драгоценном камне и Мече, то есть об императорских регалиях. Зеркало отражает Пустоту, Смерть; Драгоценный камень – это Луна, отражение Ночи; а Меч – вспышка молнии, окрашенная в цвет Крови. Под этими символами подразумеваются также Религия, Эстетика и Этика. Эта поэма троичности подводит итог моей жизни.
Подобно греческой стеле эта тройная колонка – могильный камень, увековечивающий память о моей жизни.
Смерть, Ночь и Кровь… Эту первую строчку, которую я написал когда-то, и последнюю, которую я еще напишу, отделяют двадцать пять лет езды верхом на тигре.
Я могу точно сказать, когда началась моя опасная поездка на тигре. В первый день нового 1946 года во второй радиопередаче Сын Неба объявил себя простым смертным. Зеркало упало с небес и разбилось на сотни миллионов демократических осколков. Один из этих осколков разрезал меня, как земляного червя, на две половины. И обе эти половины посмотрели друг на друга с изумлением и отвращением. В тот период моей жизни я встретился с писателем Кавабатой Ясунари. Мне нужен был литературный покровитель с незапятнанной репутацией, который помог бы мне прославиться и сделать мне имя в опасные времена демократических чисток.
Кавабате было тогда лет сорок пять, во время войны он вел себя осторожно и потому избежал преследований со стороны оккупационных властей. Макартур решил, что Кавабата либерал. Появившееся в ноябре 1945 года эссе этого писателя побудило меня искать с ним встречи.
«Я чувствую, что моя жизнь уже подошла к концу, – писал Кавабата. – Мне остается только одно – вернуться к горам и рекам прошлого. И будучи уже по существу мертвым человеком, я намереваюсь описывать лишь скудные красоты Японии, и ни строчки на другие темы».
Я послал Кавабате мою книгу и лучший экземпляр одной из рукописей с просьбой оказать мне покровительство. Он ответил с обескураживающей холодностью. В своем письме он писал, что уже знаком с «литературными достоинствами этого молодого автора». Я засыпал его письмами, добиваясь встречи. И снова получил ответ, из которого мне запомнились такие слова: «… наш небольшой кружок является всего лишь публичной, зарегистрированной оккупационными властями библиотекой, которой пользуются пожилые, ушедшие на покой ученые. Боюсь, что мы обладаем слишком скромными возможностями и нам нечего предложить молодому амбициозному автору».
Однако моя настойчивость была наконец вознаграждена. «Давайте доживем до Нового года и посмотрим, что он нам принесет», – писал Кавабата. Обнадеживающие слова.
Я не стал дожидаться, чем обернется для нас Новый год, и бесцеремонно явился к нему, как только получил последнюю записку.
Поездка до Камакуры, где жил Кавабата, длилась один час. Камакура располагалась к югу от разрушенного Токио, и добираться туда надо было на поезде. Я как будто попал в другую страну. Это действительно был край «гор и рек прошлого». Я не отрываясь смотрел в окно, за которым мелькали живописные зимние пейзажи. Заснеженные холмы, причудливые сказочные деревья, храмы и жилые загородные дома. Война обошла Камакуру стороной.