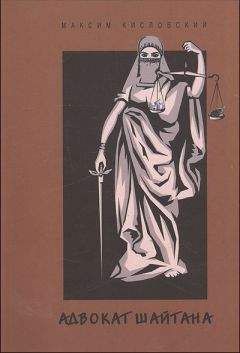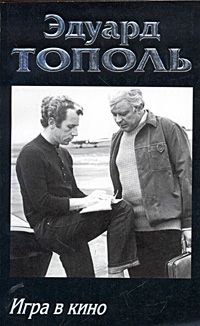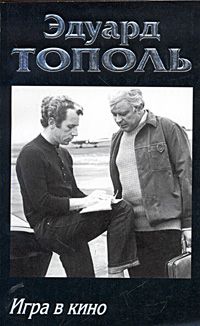Эдуард Тополь - Игра в кино (сборник)
У магазина с ненецкой вывеской «ЛАБКА» был большой щит-плакат «Дадим стране нефть и газ Заполярья!». Здесь же, возле входа в магазин, полукольцом стояли две оленьи нарты, «татра» и два тяжелых гусеничных вездехода.
Гурьянов проехал было мимо, а потом тормознул, круто развернулся и подкатил к магазину.
Магазин был типа фактории — и продукты тут, и промтовары. В продовольственном отделе два ненца и молоденькая ненка оптом закупали и складывали в мешок дюжину батонов хлеба, круги сыра, колбасы, пачки соли. Тут же стояли три русских мужика — один был в унтах, но без полушубка и в черном парадном костюме, нейлоновой сорочке и при галстуке, а двое — в обычном.
— Ну, вы сдурели, ребята, — говорила им продавщица, смешливо прикрывая ладошкой невольную улыбку и заодно отпуская товар ненцам. — Степан Прокофьевич, ну вы, ей-богу, нашли место свататься!
— При чем тут место, Поля? — басил один из сватов. — Ты учти, если ты и Степану откажешь, мы тебя вообще из поселка выселим!
— Толик! — урезонивал его потный от смущения сорокалетний мужик в черном костюме и унтах.
— Да у меня муж есть, ребята, — улыбалась им продавщица и спросила у Гурьянова: — Чего тебе, мальчик?
По-доброму спросила, без насмешки, но Гурьянова это «мальчик» задело все же, поскольку она ненамного старше его была — ну, лет на пять. Он поглядел ей в глаза, сказал с вызовом:
— Бутылку.
— Одну?
— Брюки мне надо.
— А! Какой размер?
Он пожал плечами:
— Сорок восемь.
— Сорок восемь ты в детстве носил, — усмехнулась она. — Пятидесятый, наверно.
Пройдя в промтоварный отдел, она сняла с полки три пары брюк, положила перед ним на прилавок. И стала тут же, ожидая.
— Померить бы, — сказал он.
— Да чё их мерить? — нетерпеливо сказал один из сватов. — Приложил, и все. Мерить!
— Толик! — опять попросил его жених.
Примерить действительно было негде, Гурьянов приложил брюки к поясу, чтоб хоть длину проверить, а продавщица отошла к ненцам, и настырный сват сказал ей все тем же басом:
— Нет у тебя никакого мужа. Был и весь вышел, поняла? Нашла ждать какого-то!..
— Ну, Толик! — снова умоляюще урезонил его жених.
— Мужика бери, бери, отнако, — неожиданно скороговоркой вмешалась ненка. — Хороший мужик, тобрый, бери, бери.
Продавщица рассмеялась, повернулась к Гурьянову:
— Ну что?
Гурьянов нерешительно пожал плечами, держа в руках брюки.
— Ну, пойди вон туда, померь. — Она кивнула внутрь магазина. — Иди, иди, там никого нет, там я живу.
И подняла крышку прилавка, пропуская его.
Гурьянов прошел через темный склад в какую-то комнату. Здесь уютно, чисто и во всем — в гладко застеленной кровати, порядке на тумбочке, каких-то игрушках на тахте — чувствовалась женская рука и женское одиночество. Гурьянов закрыл за собой дверь, на всякий случай подставил к ней стул, а после этого, оглядывая с любопытством комнату, снял унты и свои армейские галифе, натянул брюки, подошел к зеркалу. Возле зеркала была фотография хозяйки в обнимку с каким-то высоким красивым парнем. Гурьянов оглядел себя в зеркале. Брюки были, в общем, ничего, разве что несколько широки в поясе. Он снял их, снова надел галифе и унты и вернулся в магазин.
В магазине уже не было ни ненцев, ни сватов, и дверь была изнутри заложена перекладиной, а продавщица сидела в углу на мешке с сахаром и со злыми слезами на глазах слушала, как в эту дверь стучали снаружи. Осторожно стучали, робко. Но она не откликалась.
— А, ты еще тут, — сказала она, увидев Гурьянова, и шмыгнула носом. — Ну, берешь брюки?
— Чего тут случилось? — спросил Гурьянов.
— Ничего. — Тыльной стороной ладони она утерла глаза и размазала по щеке краску от ресниц. — Берешь брюки?
Митя не ответил. Достал было из кармана носовой платок, но тот был несвежий, и Митя спрятал его и взял чистый платок с витрины прилавка, послюнявил краешек и стал вытирать ей краску со щеки.
Она подставила лицо, повторила вопрос про брюки:
— А?
— Нет, — сказал он.
— Почему? — спросила она, не обращая внимания на стук в дверь.
— Дорого. — Он убирал с ее щеки остатки краски.
Их глаза были рядом и лица тоже.
— Правильно, — сказала она. — Плохие брюки, синтетика. Я во вторник на базу слетаю, привезу тебе.
— А чего тут случилось?
— Ничего. Замучили эти женихи дурацкие. Видят, что одна. Спасибо. — И повернулась на очередной стук в дверь: — Ну, хватит, ну, Степан Прокофьевич! Вы ж замерзнете там!
— Я только спросить, Полина Андреевна, — сказали за дверью. — Я шапку оставил.
Она подошла к двери, сняла перекладину, открыла. Озябший Степан Прокофьевич вошел в магазин, подозрительно глянул на Гурьянова, взял шапку с дальнего конца прилавка и остановился, ожидая, пока Гурьянов уйдет.
— Ну, я пошел? — сказал продавщице Гурьянов.
— Зайди во вторник, за брюками.
— Спасибо. Не надо. Я уеду уже.
За спиной у него кашлянул Степан Прокофьевич.
— Ну, пока, — сказал Гурьянов продавщице и ушел.
В небольшом деревянном клубе гремел затертый твист. Раздевалки при клубе не было, просто в вестибюле стояли вдоль стен лавки, и тут же лежала одежда, а под ней рядами — валенки, унты. А в зале народу было густо, твист танцевали кто как мог, неумело, но старательно. При этом женская половина была поголовно в туфельках, а мужчины — и в сапогах, и в унтах, и только кое-кто в ботинках. Пожилые под твист танцевали фокстрот.
В радиоузле — тесной комнатенке за сценой — молоденькая, неполных восемнадцати лет диспетчерша местного аэрофлота Алена меняла на проигрывателе пластинки, а Фенька копался паяльником в разобранном магнитофоне, и Алена торопила его танцевать идти.
— Федь! — просила она.
— Сейчас, — отвечал он солидно.
Хмуро поглядывая на них, примечая интимность в их интонациях и взглядах, Гурьянов сидел у стены на топчане, зудил электробритвой, брился. Рядом две девчонки — активистки клуба — переобули унтята на туфельки и ушли в зал танцевать.
— Ну, Федя! — нетерпеливо сказала Алена, притвистовывая у проигрывателя.
— Сейчас, припаяю, и все, — отвечал Фенька. — Ты поговори с человеком, земляк же твой. Митя, она из Лихобор, землячка тебе.
— Ну? — удивился Гурьянов.
— Правда, — улыбнулась Алена. У нее были распахнутые голубенькие глазки и распевный вятский говор. — Мы у вас в заповеднике елки всегда рубили, правда, на Новый год.
— А чего — в Лихоборах ельника нет?
— А у вас красивей, — улыбнулась она. — Боялись ужасно.
— А что тебя сюда занесло?
Алена нахмурилась.
— По набору. А что это вы сразу на ты?
Распахнулась дверь, в комнату влетела раскрасневшаяся от танцев продавщица Полина.
— Привет! — сказала она всем и попросила Алену: — Аленка, нашу поставь и пошли!
— Познакомься, Поля, — церемонно сказала Алена, кивнув на Гурьянова. — Это Федин друг, они служили вместе.
— А мы знакомы уже. Здрасти. Ну, Аленка, ну, быстро!
— Что ты завелась? — строго выговорила ей Алена.
— Ну и завелась. Что — нельзя? Меня вон опять сегодня Степан Прокофьевич сватал, он видел. Вот выйду я замуж к черту! Пошли! — И за руку утащила Аленку в зал.
Гурьянов вопросительно глянул на Феньку.
— Сестры они, сводные, — ответил тот. И пояснил: — Ну, отец у них общий, бакенщик в Лихоборах.
— А муж ее где?
— Чей?
— Ну этой, Полины.
— Ах, Полин. — Фенька отвечал односложно, паяя что-то в магнитофоне. — Бросил он ее. С местной аптекаршей в Сургут смылся. Полгода, наверно. А что?
— Ничего.
— Интересуешься?
— Чем?
— «Чем»! Полиной.
— Еще чего! Это ты интересуешься. Сестрой.
Фенька молчал, сосредоточенно паял что-то.
— Я ж вижу, — сказал Гурьянов. — У тебя тут на бензовозе сколько в месяц идет?
— Двести пятьдесят.
— И все?
— Ну, еще премиальные.
— Не-ет, тогда тебе надо к нам переходить, на участок.
Фенька молчал.
— Слышь? Я те дело говорю. — Гурьянов сунул свою бритву в небольшой фибровый чемоданчик, задвинул под топчан. — Мы отсюда с деньгами должны уехать, как договорились.
— Ну ладно те! — легко как бы отмахнулся Фенька и встал. — Пошли. Они там свою «коронку» дают, наверно.
— Чего дают?
— Танцуют.
В зале вся публика кольцом окружила пятачок, где Поля и Алена «выдавали» шейк. Они танцевали азартно, самозабвенно, и был в танце Полины словно бы вызов всему свету и вместе с тем — забвение всего света. Аленка танцевала с лукавинкой, форся легкостью своей фигурки, ладным аэрофлотским своим костюмчиком, а Поля будто отводила душу, будто жила в эти мгновения где-то внутри себя и только это чувствовала — руки свои, плечи, молодые ноги в капрончике.