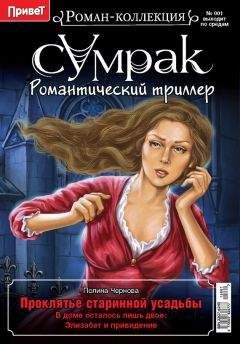Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 8 2013)
в нужном отделе нет ни души. o:p/
o:p /o:p
На месте условной иерархии высокого и низкого видим у Ерёменко мнимости и сущности, его вообще можно назвать поэтом сущностей — в отличие, скажем, от биографически близкого ему Ивана Жданова как поэта в и дения. И эти сущности проступают зачастую благодаря отсылкам к классике, как в таком, например, контексте: o:p/
o:p /o:p
На холмах Грузии лежит такая тьма, o:p/
что я боюсь, что я умру в Багеби. o:p/
Наверно, Богу мыслилась на небе o:p/
Земля как пересыльная тюрьма. o:p/
o:p /o:p
Мрак тоже переживается у Ерёменко как состояние экзистенциальное, и в этих стихах он скорее делится с Пушкиным серьезностью и остротой переживания, чем заимствует у него что-то или пересмеивает его. Подключаясь к большим поэтическим ресурсам, поэты, как правило, не озабочены правом собственности — они с легкостью берут, отдают и смешивают, за счет чего и прирастает общее поле поэтических смыслов. o:p/
Тема света и мрака — одна из устойчивых тем у Ерёменко. Оставив в стороне выразительные примеры («все забери, только свет не туши», «окно откроешь, а за ним темно» и т. п.), рассмотрим стихотворение, в котором эта тема организует весь сюжет: o:p/
o:p/
Самиздат-80 o:p/
o:p /o:p
За окошком света мало, o:p/
белый снег валит, валит. o:p/
Возле Курского вокзала o:p/
домик маленький стоит. o:p/
o:p /o:p
За окошком света нету, o:p/
из-за шторок не идет. o:p/
Там печатают поэта — o:p/
«шесть копеек разворот». o:p/
<…> o:p/
Без напряга, без подлянки o:p/
дело верное идет o:p/
на Ордынке, на Полянке, o:p/
возле Яузских ворот... o:p/
o:p /o:p
Эту книжку в ползарплаты o:p/
и нестрашную на вид o:p/
в коридорах Госиздата o:p/
вам никто не подарит. o:p/
o:p /o:p
Эта книжка ночью поздней, o:p/
как сказал один пиит, o:p/
под подушкой дышит грозно, o:p/
как крамольный динамит. o:p/
o:p /o:p
Но за то, что много света o:p/
в этой книжке между строк, o:p/
два молоденьких поэта o:p/
получают первый срок. o:p/
<…> o:p/
И когда их, как на мине, o:p/
далеко заволокло, o:p/
пританцовывать вело, o:p/
кто-то сжалился над ними: o:p/
что-то сдвинулось над ними, o:p/
в небесах произошло. o:p/
o:p /o:p
За окошком света нету. o:p/
Прорубив его в стене, o:p/
запрещенного поэта o:p/
напечатали в стране. o:p/
<…> o:p/
Два подельника ужасных, o:p/
два бандита — Бог ты мой! — o:p/
недолеченных, мосластых, o:p/
по шоссе Энтузиастов o:p/
возвращаются домой... o:p/
o:p /o:p
И кому все это надо, o:p/
и зачем весь этот бред, o:p/
не ответит ни Полянка, o:p/
ни Ордынка, ни Лубянка, o:p/
ни подземный Ленсовет, o:p/
как сказал другой поэт. o:p/
o:p /o:p
Стихотворение знаменательное, знаковое во всех смыслах — с песенной легкостью, без нажима, нанизывая одну цитату на другую, Ерёменко рассказывает обыденную историю, а через нее видна большая российская история, фигурантами которой являются поэты, — «два молоденьких поэта» и за их спинами еще целая вереница: «один пиит» (Пастернак), «другой поэт» (Рейн), авторы цитируемых песенок (Ваншенкин и Мориц), автор цитируемых стихов об «этой книжке» (Тарковский) и, наконец, тот большой «запрещенный поэт», автор книжки, в которой «много света», за которую поэты получают срок. Свет этой книжки нужен им как хлеб, но «кататься любишь — люби саночки возить», как сказано в той песенке Ваншенкина («За окошком свету мало, / Белый снег валит-валит, / А мне мама, а мне мама / Целоваться не велит»), а вот «два молоденьких поэта» возят эти саночки сначала «первый срок», а потом «добавочный», который всегда «длинней» (слово «длинный» в стихах Ерёменко достойно специального разговора). За этим просвечивает память о большом Поэте, который тоже возил когда-то свои саночки «там, где рыбой кормят четко, / но без вилок и ножей» и вот теперь через книжку передал другим поэтам эту эстафету. Благодаря упомянутому халтуринскому динамиту из поэмы Пастернака «Девятьсот пятый год» история идет вглубь, но для автора она словоцентрична, и «крамольный динамит» работает как сравнение, как образ взрывной силы «этой книжки» — с намеком, может быть, и на цену слова, соотносимую с ценой жизни. Еще один исторический пласт вводится отсылкой к «Преображенскому кладбищу» Евгения Рейна — сталинская эпоха («Теперь в глубоком царстве они живут, как могут, / Зиновьев, Николаев, Сосо и лысый дед. / И кто кого под ноготь, и кто кого за локоть — / об этом знает только подземный Ленсовет»); мирная московская топонимика, заданная стихами Юнны Мориц («На Ордынке, на Полянке / Тихо музыка играла»), взрывается топонимикой другой, символической — от шоссе Энтузиастов до Лубянки, с уходом в царство мертвых. «Весь этот бред» российской истории нарастает кольцами вокруг той самой «книжки» — образной сердцевины стихотворения <![if !supportFootnotes]>[40]<![endif]> . o:p/
Для самого Ерёменко и для целого поколения поэтов и читателей «крамольным динамитом» стали стихи Мандельштама — именно этим описанным у Ерёменко способом копировался его американский четырехтомник в 1970 — 1980-е годы, «шесть копеек разворот», хотя появилась уже и книжка разрешенная, которую «напечатали в стране» («И синий с предисловьем Дымшица / Выходит томик Мандельштама» — Сергей Гандлевский). Речь в этих стихах, конечно же, идет о Мандельштаме: «Хотя нигде он по имени не назван, никаких сомнений быть не может» <![if !supportFootnotes]>[41]<![endif]> . Уверенность эта основана не только на текстуальных подсказках: любому читателю Ерёменко очевидно, что Мандельштам — ключевой для него поэт, прочитанный от корки до корки («И в „Восьмистишия” гения, в мертвую зону, / можно проход прорубить при прочтенье активном») и пережитый как личный опыт. Говоря его стихами как своими о своем, Ерёменко переносит этот опыт в свою эпоху и разделяет его настолько, насколько возможно. В «Ночной прогулке», написанной по следам мандельштамовского «Нет, не спрятаться мне от великой муры…» («Мы с тобою поедем на „А” и на „Б” / Посмотреть, кто скорее умрет»), он раскрывает мандельштамовский трамвайный маршрут, наполняя его подробностями русской истории: o:p/
o:p /o:p
Мы поедем с тобою на «А» и на «Б» o:p/
мимо цирка и речки, завернутой в медь, o:p/
Где на Трубной, а можно сказать, на Трубе, o:p/
кто упал, кто пропал, кто остался сидеть. o:p/
<…> o:p/
И вчерашнее солнце в носилках несут, o:p/
и сегодняшний бред обнажает клыки. o:p/
Только ты в этом темном раскладе не туз. o:p/
Рифмы сбились с пути или вспять потекли. o:p/
o:p /o:p
Образ Пушкина у Мандельштама («вчерашнее солнце») соединяется с образом самого Мандельштама (цитируется сразу несколько его стихотворений, а «клыки» отсылают к «веку-волкодаву»), и в этой исторической «ночной прогулке», наряду еще и с Андреем Белым, Гумилевым и Межировым, темы которых тоже здесь звучат, участвует и сам поэт — вместе с безымянными теми, «кто упал, кто пропал, кто остался сидеть». История идет по трамвайному садовому кругу какой-то дурной российской бесконечности — «Мы еще поглядим, кто скорее умрет…». И если Мандельштам в свою эпоху воплотил опыт «поэта в аду» <![if !supportFootnotes]>[42]<![endif]> , то Ерёменко на новом витке истории явил своим стихом и своей личностью «поэта в бреду» — не в собственном, а в том самом советском бреду («и зачем весь этот бред»), который то смешон, то «обнажает клыки». При этом мандельштамовский опыт был Ерёменко усвоен и в стихах его как будто растворился, давая такие, например, вспышки: o:p/
o:p /o:p
Я прошел через водные трубы, o:p/
пионерская звонкая медь! o:p/
Подожги меня в огненной шубе, o:p/
как сосна до звезды умереть! o:p/
o:p /o:p
Огонь, вода и медные трубы, слава и смерть, «жаркая шуба» и сосна, которая у Мандельштама «до звезды достает» («За гремучую доблесть грядущих веков…»), соединились здесь в пылающий факел жизни — как красиво!
o:p /o:p
Можно искать и находить корни поэзии Ерёменко, но очевидно, что он ни у кого не учился, никакой школе не наследовал, да, собственно, и не имел развития — создав разом свой поэтический мир, он «от дедушки ушел, и от бабушки ушел», и на сегодняшний взгляд оказался в литературе аутсайдером. Но для тех, кто привык не только жить со стихами, но и думать о них, Ерёменко, как всякий настоящий поэт, обостряет главные вопросы: что, собственно, есть поэзия, из чего она возникает, где в ней игра и где судьба, какова мера творческой свободы и есть ли эта мера. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Костюков Леонид. Александр Ерёменко. OPUS MAGNUM. — «Знамя», 2002, № 9.