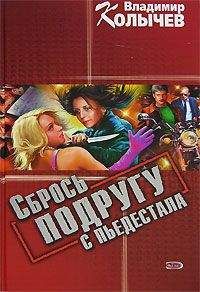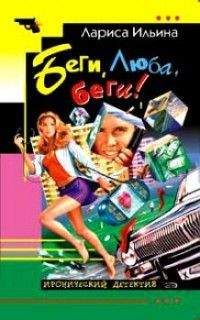Артур Филлипс - Прага
— Спасибо, спасибо! — повторяет Скотт.
— Спасибо, спасибо! — эхом вторит Мария.
Чарлз лениво улыбается, ему забавно. Марк сосет зуб, и Джон чует запах его пота. Рука Брайона на плечах Эмили, но вторая — на плечах Марка.
— О, это так здорово! Так классно! Здорово, да? — спрашивает Эмили у Джона, прибывшего с опозданием.
Да, здорово, — отвечает Джон, чтобы она была довольна, ничуть не задумываясь, что «это» такое. Лишь когда Скотт н Мария удаляются под руку, Чарлз говорит:
— Поздравлять с этим вряд ли естественно, — и описывает, как те двое проснутся в первый день медового месяца и сядут за «плотный покаянный завтрак». Только сейчас Джон понимает: «полениться» конечно же, было «пожениться». «Это», такое классное и здоровское, — помолвка, известие о которой выжало из Джона лишь кивки, жевание льда и пурпурные неоновые усы длиной с барную стойку.
Он гадает, что сказал бы, если б австралийская танцевальная мелодия не перевернула тот единственный согласный тук, и «поленились» осталось бы «поженились». В самом деле: может, эта музыка дала Джону возможность раз в жизни ответить искренне? Джон говорит себе, что это был его последний бой.
X
Эффектно сверкнув латинскими терминами, Ники атлетически спрыгивает с него.
— Теперь мне надо поработать. — Джон не сразу понимает, что она имеет в виду. — Ты же не думал, друг, что в обслуживание каждый раз включается постой до утра? — Ники бросает ему в лицо его белье. Она стоит перед одним из дюжины зеркал — треснутым, грязным ростовым зеркалом, укрепленным на старинной деревянной раме, и подравнивает угол своей красной фески с кисточкой. — Бурные ночи хороши время от времени. Но если я не буду высыпаться, муза перестанет меня посещать, и я стану бесполезна, — Подогнав феску, Ники рассматривает свой профиль.
— Я не помешаю, мэм. Честное слово.
— Не будь таким, — отвечает она его отражению глубоко в зеркале. — Иногда сможешь оставаться, если этот маленький проект у нас продолжится.
Джон поднимается на локте посмотреть, как она снимает холстину с незаконченных работ.
— Ты не можешь работать при мне? Уже почти полночь. Я буду тихо, как мышка.
— Я же сказала. Правила дома: на первом месте — искусство, все остальное — дело третье. Перед тем как попроситься войти, гостям настоятельно рекомендуется перечитывать правила.
— Но мне нравится твоя работа, — мямлит Джон.
— О, спасибо, спасибо, — Ники, как всегда, неподдельно тронута похвалой. Она гладит Джона по лицу, нежно целует. И шепчет на ухо: — Но у тебя есть три минуты, чтобы свалить отсюда и дать мне работать.
— Я думаю, ты хочешь, чтобы я остался.
— Прекрати, — обрывает Ники. Она поднимается и идет к своим мольбертам. — Пожалуйста, не говори глупой чепухи. Правила есть правила, или больше никаких игр. Всё.
И вот за полночь Джон восседает в гостиничном баре и смотрит теленовости на английском, повтор каждые полчаса. Ирак снова и снова захватывает Кувейт, и мультипликационные стрелки, круто изгибаясь, разматываются по карте через границы. На третьем повторе Джон тихонько смеется этим так быстро устаревшим новостям, и живой, нетелевизионный голос спрашивает по-английски:
— А что смешного? Где здесь шутка? Где гэг? — Джон оборачивается — справа. Лет сорока пяти, в рыжей безрукавке с дюжиной карманов на молниях и липучках. Каштановые волосы, поредевшие там, где это обычнее всего, ровно зачесаны назад влажными грядками. — Ну правда. Что смешного? Большая заваруха на Ближнем Востоке, нет?
Джон вытрясает в рот липкие орешки.
— Смешного? Не знаю. На минуту мне показалось, что это все может быть розыгрыш. Вам не кажется, что это немного смешно? Война кого-то против кого-то, один нападает, танки, пустынная стратегия, мир в кризисе, и журналисты говорит напряженнее…
Джон теряет нить: тот, другой, слушает и кивает, но явно не врубается.
— Тед Уинстон. «Таймс».
Мужчина стискивает зубы и протягивает руку мимо собственного неподвижного туловища.
Не дождавшись города прописки газеты, Джон представляется.
— Кажется, «БудапешТелеграф».
И ждет, что настоящий журналист будет смеяться.
— «БудапешТелеграф»? А, да — местная англоязычная. Завидую вам. Я сразу понял, что вы газетчик. Первое назначение? Хотите понять страну? Вот способ. — Тед Уинстон дважды звякает о свой пустой стакан черным пластиковым коктейльным веслом, щелкает языком и показывает веслом на пышноусого мускулистого мадьяра в черной жилетке и бабочке — тот лениво вытирает со стойки выпотевшие кольца. Пока ему наполняют стакан, Тед командует: — Опишите мне эту страну в шестидесяти словах или меньше.
— В шестидесяти словах или меньше?
— Это хорошая тренировка. Затем вы и здесь.
Джон дважды звякает о свой стакан и щелкает языком, но ему колдовство не удается.
— Девчонки тут хороши. Сколько это — девчонки-тут-хороши — три? Ладно, значит, остальные пятьдесят семь…
— Вы шутите, ладно, я это оценил. Люблю чувство юмора. Полезная вещь, — говорит Тед Уинстон. — Но вот чему я научился в вашем возрасте, Прайс. Научился от Чжоу Энлая, китайского премьера. Я был тогда зеленым, Прайс — зеленым-презеленым. Я кой-чего повидал во Вьетнаме, но все равно оставался юнцом. От того, что видел, как умирают мужчины, сам не становишься одним из них. Меня этому крепко научили. Ну, так или иначе, я приехал в Пекин, следом за Никсоном, в Пекине тогда, знаете, очень серьезный был момент, большие события. — Уинстон снова звякает стаканом, щелкает и показывает на бармена. — На минуту я остался наедине с самим Чжоу. Обворожительный дьявол. Но пахло от него жасмином — страннейшая штука, никогда этого не забуду. Обворожительный дьявол, а я не падкий в этом плане, хочу подчеркнуть в настоящий момент. В любом случае, отвечая на один из моих вопросов, премьер уставился на меня этими своими маленькими глазками. Знаете, когда хотят, они могут тяжелым взглядом проткнуть вас насквозь, такие люди. Сильным хватит просто на тебя поглядеть. А как еще вы объясните, что миллиард народу не скинул коммунистов в прошлом году, а? В общем, премьер объяснил мне, что китайский иероглиф — слышали, нет? — китайский иероглиф «возможность» состоит из двух иероглифов, в последовательности — карлик и великан, в таком порядке. Карлик становится великаном. Понимаете? Вот что такое возможность. Во всяком случае, так это видят китайцы, и я думаю, они знают толк. Волшебные маленькие ублюдки.
Телевизор повторяет известия получасовой и часовой давности, и поскольку на войне нет серьезных изменений, те же самые корреспонденты выдают те же самые репортажи из Багдада, Вашингтона, Кувейта и откуда угодно еще. «Но в Брюсселе стало ясно одно: разрешения кризиса не видно».
— И не говори, — подтверждает Тед. — Никак не видно. Разрешения этого чертова кризиса нам никак, черт возьми, пока не увидать.
Дзын-дзынь, щелк-щелк, весло.
— Давно вы при стране? Знаете душу этого места?
— Не знаю, но морепродуктам в стране без морского побережья лучше не доверять.
Уинстон кивает, как будто получил ответ, которого ждал.
— Вам надо влезть в шкуру этих людей. Вот что я бы делал на вашем месте. Эту страну требуется объяснить прямо сейчас, прямо в этот чертов момент, тем более, вы сидите в ложе. Хватайте эту нацию. Трясите ее. Рассмотрите к чертовой матери в каждом ракурсе Если будете писать о том, что знаете — и только об этом, — сможете лепить эту страну. Люди будут рассчитывать на нас — лично на вас, Джон, — что мы придадим смысл бессмысленному миру. Что это значит для вас?
— Виноват, а что это значит для меня?
— Из карлика в великана. Помните! Из карлика в великана.
Две пергидрольные шлюшки подсаживаются справа к Теду и на быстром мелодичном венгерском говорят с барменом. Запах духов затапливает все, и Джон благоразумно прячет нос в пустом стакане.
— Я чую в вас много от себя, — говорит Уинстон Джону. — Оставь метку, и большие мальчики придут и позовут Так оно и идет. Возможность.
— Насколько понимают в эмирате Дубай, — говорит молодая женщина на фоне черных железных ворот, обрамленных по бокам пальмами и камерами наблюдения, — остается только ждать. В настоящий момент у нас только догадки, сплошные догадки. Жителям Дубай остается только ждать. Только сидеть и ждать. А дальше? Пока еще об этом слишком рано говорить, но есть опасение, что это продлится не очень долго. Вам слово, Лу.
Бармен осторожно облизывает указательный палец и берется пересчитывать толстую пачку денег, которую ему передали потаскушки, выкладывая отдельные стопки из каждой новой валюты, которая ему попадается, хлопая время от времени по кнопкам маленького калькулятора и неуклюже делая пометки карандашом в левой руке, изредка задавая угрожающе-недоверчивые вопросы. Тед Уинстон страдает от временного одиночества.