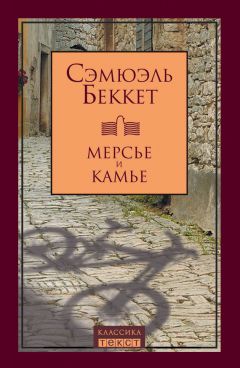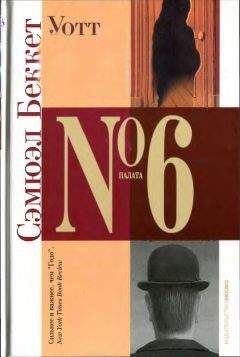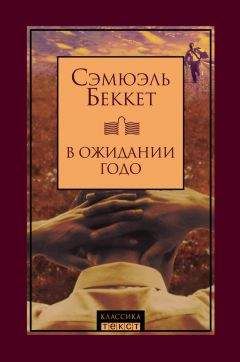Владимир Максимов - Семь дней творения
— Что ж, возьмем в бригаду седьмого. Не обедняем. — Он остановился перед дверью, на которой красовалось меловое изображение черепа и двух скрещенных костей. — Тоже мне, остряки… Заходите.
Административный корпус отличался от остальных бетонных коробок на площадке лишь множеством окон по всем четырем своим сторонам. Внутри его, по огибающему здание коридору, выстраивались одна за другой бесчисленные, одинакового размера двери, над каждой из которых был прикреплен пластмассовый номерной знак. Осип без стука толкнул крайнюю с корявой надписью поперек: «Комендант».
— Привет начальству! Принимай, Христофорыч, жильцов, выдавай амуницию и ставь на довольствие.
В комнате, заваленной матрацами и раскладушками, за больничного типа тумбочкой сидел волосатый старик в полуистлевшей майке, под которой явственно просматривался вытатуирован-ный на груди государственный герб Российской империи, обрамленный броской надписью: «Стреляйте, гады!» Перед стариком, рядом с надкусанным помидором, поверх стопы ведомостей, стояла едва початая четвертинка. Взгляд его, устремленный в сторону вошедших, источал похмельную печаль самой высокой пробы:
— Еще один? Да еще и семейный! И куда только вас несет, господа! В эту тьмутаракань! Вы думаете, у здешнего рубля другая длина? Ошибаетесь. Скорее наоборот, он гораздо короче. Гораздо. Впрочем, как выражаются в хорошем обществе: хозяин — барин. — Он повел костистым подбородком вокруг себя. Выбирайте, что понравится, и занимайте пятьдесят шестой нумер. Вот ключи…
После того, как они, наконец, с помощью Осипа устроились, и Антонина, вычистив и вымыв отведенную им комнату, сбегала в ларек и накрыла на стол, комендант, уже на изрядном взводе, явился к ним в гости:
— Всего на три куверта? Ай-ай-ай, нехорошо забывать домовладельца! Еще пригожусь. — Он снисходительно подмигнул спохватившейся было Антонине. — Не извольте беспокоиться, сударыня, я со своим прибором. — Перед ним, словно по волшебству, появился лафитник. — Будем, господа, ваше здоровье! — На его жилистой шее только кадык дернулся. — Да, Ося, их я еще понимаю. Они русские. Им сам Бог велел мечтать и разочаровываться, такая порода. Все тщатся поближе да побольше взять и разбогатеть разом. Азиатские инстинкты сказываются. Но ты, Ося, образованный человек, еврей. Неужели и твой изощренный ветхозаветный ум не мог выдумать чего-нибудь неудобоваримее.
— Но ты ведь тоже сюда забрался, Христофорыч. — Посмеивался одними глазами тот. — И потом, что ты имеешь к евреям?
— Что я имею к евреям! — Видно, эту игру они разыгрывали не впервой, комендант оживился, с готовностью идя навстречу партнеру. — Спроси, что они имеют ко мне? Я старый человек, мне нет смысла кривить душой, но я прекрасно помню, как это все начиналось. Бывало стучат. Стучат, конечно, прикладами, так внушительнее. Откроет это нянюшка моя, Анастасия Кар-повна, Царствие ей Небесное, а на пороге беспременно хлюст в кожанке, наган на боку болтается. И уж, будьте уверены, или жид, или латыш. И чуть что сразу на мушку. Ты, Ося, человек грамотный, начнешь, конечно, молоть сейчас насчет полосы оседлости и еврейском люмпенстве, как питательной среде революции. Но ты мне скажи, спокойствие-то кровожадное откуда? Люмпен, он вспыхнул и погас. У него классового гнева ровно до первой жратвы хватает. А ваши методически убивали. Убивали, будто нудный обет исполняли. Детишек и тех не жалели. Романовых, к примеру. Видно, хоть и отказались от веры отцовской, не избыли ее в себе. Сидел в них Яхве, глубоко сидел. Вот и давили гоев. Гоя можно, гой не человек.
— Были и другие, Христофорыч.
— Наверно были, — вяло согласился тот и, налив себе сам, выпил. Только я их не заметил. Землю от Парижа до Бугульмы исходил, а не заметил. Правда, знал одного в лагерях под Игаркой. Зяма Рабинович, святая душа. Романист, байки все травил. Да вот ты еще, пыльным мешком из-за угла ушибленный. Черт тебя сюда принес. Я? Я — другое дело. Меня три раза брали, ты это можешь понимать? — Он начал старательно загибать узловатые пальцы. Из Франции в сорок шестом вернулся, взяли? Взяли. В сорок девятом неделю дали на воле походить, взяли? Взяли. В пятьдесят втором через месяц после освобождения опять взяли? Взяли. Не хочу больше! Мне сам Бог велел в самую глушь забиваться. Лишь бы забыли они про меня. Хоть помру не за проволокой. — Он поискал умоляющим взглядом в сторону Антонины. — Не пожалей, сударушка, на посошок старику. — Он одним махом сглотнул налитое, сунул лафитник в карман и, гулко вздохнув, поднялся. — Пойду, засплю свои триста грамм. Здесь я у одного спрашиваю, чего, мол, пьешь много? А он мне: самому, говорит, худо. Зато, говорит, когда до чертей допиваюсь… (неразборчиво. — Ред.) Так вот и я…
После его ухода они некоторое время молчали, потом Осип, опуская веки, тихо сказал:
— Хороший мужик, пьет только сильно. Завтра занимать придет. Вы ему не давайте, не отдаст. А напоить его и так напоят, народу много. На хлеб нету, а на водку всегда найдут. — Он коротко взглянул на Николая. — Сам-то не увлекаешься?
— В меру.
— Смотри. Ребятня здесь подобралась — один к одному, пьют всё, включая смесь из огнетушителей.
— На мне, по этой части, где сядешь, там и слезешь.
— Ну-ну…
Подперев кулаком щеку, Осип невидяще смотрел прямо перед собой и в его настороженном облике Антонине почудился отсвет какого-то, еще неведомого ей знания, которое безмолвно излучал этот, едва знакомый ей человек. Да, да, это были не скорбь, не печаль и даже не безразличие, а именно вещее знание того, что она должна была постичь лишь в будущем.
Уходя, Осип, уже с порога, обернулся:
— Завтра прямо туда и приходите, где сегодня были. Соберемся, прикинем, с чего начать. Всего.
Смутное предчувствие решающего в своей жизни события коснулось Антонины и затем уже весь вечер не оставляло ее. Укладываясь спать, она поймала себя на том, что поет: «Эка тебя, Антонина Петровна, разобрало, гляди, плясать пойдешь!»
IIПроснувшись на следующее утро, Антонина обомлела. За окном стоял литой монотонный гул. Иссеченное песчаной пылью стекло мерно вибрировало. Если бы не требовательный звон будильника, можно было б подумать, что на дворе еще сумерки: тусклое утро едва освещало прямоугольник комнаты. Накинув халат на плечи, она разбудила мужа:
— Гляди, Коля, что на дворе делается!.. Страсть. — Украдкой поглядывая в сторону Николая, она хлопотала вокруг стола. — Вот заехали, сам не рад будешь.
— На Севере померзли, на юге погреемся, — пытался отшутиться тот, но по всему было видно, что настроение у него тоже не ахти. — Перезимуем.
Едва они успели собраться, в комнату к ним заглянул Осип. Снисходительно улыбаясь, приободрил:
— Не тушуйтесь, обойдется. Дня три погудит — утихнет. Тем более, работать нам под крышей. — Уже из коридора подмигнул заговорщицки. — Не отставать!
Колкий, обжигающий гортань ветер чуть не сбивал с ног. Степная пыль въедалась в волосы, проникала под одежду, зябко скрипела на зубах. Силуэты строений еле просматривались в сплошной пылевой завесе. Шедший впереди Осип то и дело подавал голос:
— Смелее!.. Смелее!.. Два-три десятка последних усилий, как говорится… Привыкать надо!
Когда они, наконец, добрались до объекта, Антонине показалось, что все в ней насквозь пронизано сухой зудящей изморосью. Еще не приступив к работе, она чувствовала себя разбитой и обескровленной. Одно только предположение, что это может продлиться еще несколько дней, повергало ее в панику и уныние: «Надо же было забраться в такую преисподнюю!»
Вниз Антонина спускалась, чувствуя на себе настороженный, изучающий взгляд нескольких пар глаз. У стены на корточках, выжидающе присматриваясь к вошедщим, сидело четверо парней в спецовочных комбинезонах. Двое из них были как две капли воды похожи друг на друга: курносые, с белесыми бровями над зеленым удивлением робких глаз. Рядом с ними медлительно потягивал сигарету смуглый, похожий на цыгана парень, короткая шея повязана пестрым носовым платком. Заспанное лицо четвертого не выражало ничего, кроме насмешливой скуки. Пропустив спутников вперед, Осип опустился на трап:
— Знакомьтесь, — кивнул он им. — Вот эти два сапожка: Сеня и Паша. Братья. Любшины. Черный пижон — Шелудько. Сергеем зовут. А эта спящая красавица претендует на имя Алик. Альберт, так сказать, Гурьяныч. Вы — сами назоветесь.
— Тоня.
— Николай.
— Считаем, что высокие стороны договорились. — Он мгновенно перестроился на деловой тон. — Условия вы, ребята, знаете. Решайте, беремся или нет?
После недолгого молчания первым откликнулся Альберт Гурьяныч. Лениво позевывая, он сказал:
— Тебе видней, бригадир. Только на этом Карасике, сам знаешь, пробы ставить негде: обманет и не кашлянет.
— Работа не по разряду, бригадир. — Качнул курчавой головой Шелудько. — Это ж бабье дело, стены мазать. Больше грязи, чем работы. А там — смотри, дело твое.