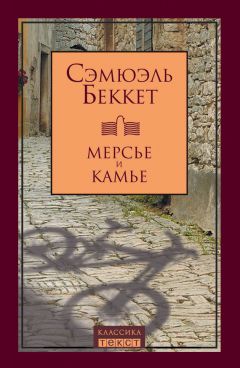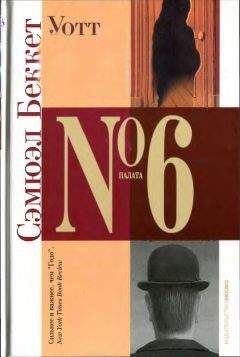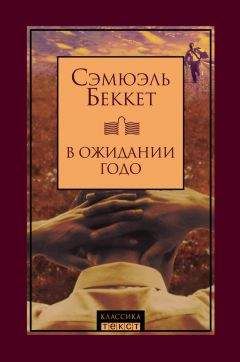Владимир Максимов - Семь дней творения
Их отъезд от берега сопровождал залихватский наигрыш гармони, перекрытый пьяно-отчаянным тенорком:
По реке плывет топор
Из села Неверова.
И куда ж тебя несет,
Железяка херова?
Пятница
Лабиринт
Здравствуйте, дорогой многоуважаемый папаня! Во первых строках своего письма сообщаю, что мы живы-здоровы, того и Вам желаем. Папанечка родненький, как вы там живете-можете? Приехали мы с Колей на новое место. Здесь кругом степя и очень ветра. А так ничего, жить можно. Очень я по Вас соскучилась, папаня. Часто утром встану и по привычке к стене тянусь постучаться. Попали мы в хорошую бригаду. Бригадир у нас сам из евреев, но человек хороший и душевный. Прямо таких я еще не видела. Заработки в этом месяце, должно, будут хорошими. Правда, вот, пойти здесь некуда. Кругом степь голая, ни куста, ни травинки путевой. Все об детстве вспоминаю, когда я на огороде у нас все заячий хлеб отыскивала, а вы все смеялись, чем бы, мол, дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Вот написала и заплакала. Плакать я теперь много стала, а почему, сама не знаю. Видать, года. Дорогой Папанечка, принесу я вам скоро внука или внучку. Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Вы не беспокойтесь, работаю я по мере возможности, больше Коля не дозволяет и ребята в бригаде не дают. Даст Бог, когда рожу, соберемся все вместе, в одном углу, буду тогда дитя растить, вашу старость обихаживать. Вот как хорошо-то было бы! Только, когда это будет? Стройка у нас какая-то непонятная, чего строим, сами не знаем, почитай, одни коридоры да комнатенки махонькие. Ну, да не наше это собачье дело. Платили бы хорошо, а об остальном пускай у начальства голова болит, им с горы виднее. Все я об себе и об себе, а об вас и совсем забыла. Папанечка родненький, напишите весточку, как живете, как здоровьичко ваше, как по хозяйству справляетесь? Беречь вам себя надо, как вы у меня старенький, внуков дождать-ся. Нехорошо мне тут будет, коли вы заболеете, изведусь вся. Очень я жду письма вашего, Папаня.
Будьте так добры, не забывайте свою Антонину, а я об Вас никогда не забуду.
Любящая Ваша дочь Антонина и зять Николай. IКогда Антонина, следом за Николаем, переступила порог прорабской, там, кроме самого хозяина, находился неизвестный тощий парень лет двадцати пяти, в заляпанном раствором комбинезоне. Занятые разговором, те даже головы не повернули в сторону вошедших. Прораб — бесформенная махина, с короткой склеротической шеей — водил карандашом по листу бумаги перед собой, подсчитывал вслух:
— Считай, по шести копеек, плюс добавлю копейки три на подноску. Плюс насечка — гривенник. Соображаешь, какую сумму отхватить можно?
Слушая его, тощий недоверчиво покачивал лобастой головой, равнодушно следил за движением карандашного острия в неуклюжих пальцах прораба и большие темные глаза его при этом настороженно светились:
— Вы же знаете, Назар Степанович, что такое насечка, — пока с ней провозишься, какая работа?
— А ты не усердствуй. Пройдись молоточком для порядка и покрывай. Я же принимать буду.
— Не могу, Назар Степаныч. Дело есть дело. Или на совесть делать, или никак.
— Совесть! Что ты ее с хлебом есть будешь? Я тебе заработать даю, а ты ко мне с моральным кодексом лезешь.
— Да и людей у меня мало для такой работы, Назар Степаныч. В срок не освоим объект.
— Люди — не задача. Людей я тебе дам. — Он вскинул на вошедших тяжелые веки. — Чего вам?
Вполуха выслушав Николая, прораб мельком пробежал поданное тем направление, недовольно поморщился:
— Разнорабочий. Что они там в кадрах, с ума посходили что ли? Нету у меня никакой разной работы. Освободился?
— С полгода.
— Что в лагере делал?
— На строительстве.
— Чему научился.
— Всего понемногу.
— Штукатурное дело приходилось.
— И это было.
— Видишь, — удовлетворенно оживляясь, он повернулся к парню, — на ловца и зверь бежит. Хватай, пока не умыкнули. — Взгляд его остановился на Антонине. — А это жена, надо думать? Вот ее-то мы на разные и приспособим. Подкинь им кого-нибудь из своих, сразу с двух сторон фронт погонишь. Прораб оказался не по комплекции стремительным и подвижным: ткнув карандаш в боковой карман спецовки, он решительно вскочил и подался к выходу. — А ну, на объект!
Вагончик прораба стоял на пригорке, и с порога стройка обстоятельно обозревалась вдаль и вширь. Вокруг площадки, насколько хватал глаз, простиралась, синея в знойной дымке, ровная, как стол, степь. Строительство, в основном, велось вглубь, возвышаясь над поверхностью земли не более, чем на метр-два, поэтому самая площадка выглядела с порога вагончика скопищем серых, под цвет степи, квадратной формы плоских бетонных коробок, между которыми сновали запыленные самосвалы. Работа шла там, внутри этих коробок, оттого стройка, сравнительно с ее размерами, казалась почти безлюдной.
Идя позади мужчин, Антонина более не прислушивалась к их разговору. Ее волновало сейчас, надолго ли задержится она здесь с Николаем? После отъезда из Узловска они уже успели поработать в экспедиции на Крайнем Севере, затем зацепились было в Красноярске на лесокомбинате, но стоило очередному щедрому на посулы вербовщику поманить Николая шальным заработком, он, не раздумывая ни минуты, потащил ее за собой в Среднюю Азию. Раньше Антонина снималась с места без особого сожаления, ей самой хотелось наверстать упущенное за предыдущие свои безвыездные сорок лет. Разнообразие и пестрота открывшегося перед нею простора поразила ее, обещая ей там — за горизонтом — еще более заманчивые дали. Но однажды утром она почувствовала какую-то неясную и обновляющую в себе перемену. Присутствие иной, сокровенной жизни затеплилось в ней и, сладостно всем существом затихая, она чутко насторожилась и присмирела. С тех пор Антонину потянуло к постоянству и покою. Она страстно вдруг захотела своего утла, своих четырех стен, которые бы отгородили эту возникшую в ней жизнь от грозных случайностей окружавшего ее мира. Поэтому сейчас, идя следом за мужчинами, Антонина откровенно страшилась того, что Николай долго здесь не задержится и ей придется снова укладывать нехитрые их пожитки для новой дороги.
Шедший впереди прораб, поманив спутников за собой, неожиданно свернул в темный провал одной из бетонных коробок. По деревянным сходням они спустились в едва освещенный временной проводкой коридор полуподвального помещения, из бесконечной глубины которого тянуло неокрепшим раствором и земляной сыростью.
— Здесь только фронт наладить, а там дело само пойдет. — Прораб поспешно увлекал их вперед. — Такая деньга потечет, озолотиться можно.
Коридор тянулся вдоль такой же, размером поменьше, внутренней коробки со множеством дверных проемов по лицевой стороне, каждый из которых был, в свою очередь, началом поперечного прохода, соединяющего обе стороны всего здания. До выхода на противоположном конце они обогнули ровно половину бетонного четырехугольника. Прежде чем выйти наружу, прораб повернулся к тощему:
— Другой бы благодарен был, а ты ломаешься. Здесь двумя фронтами с обоих концов гнать можно. — Считая, видно, разговор законченным, он выдернул из бокового кармана записную книжку и, вооружившись все тем же карандашом, что-то в ней размашисто накарябал. — Определи-ка их вот в общежитие. — Протягивая парню вырванный из блокнота листок, прораб почему-то упорно отводил от него глаза. — Договорись с подсобкой и принимайся.
Прораб утонул, растворился в солнечном провале выхода, а парень, оборачивая к ним растерянное лицо, сокрушенно вздохнул:
— Без меня меня женили. — Повертел в руках бумагу, хмыкнул. — Ладно, пошли.
По дороге, идя с ним бок о бок, Антонина искоса разглядывала его. Высокий, худой, несколько сутуловатый, с резко вырубленным профилем, он задумчиво щурился на ходу, словно разглядывал вдали что-то ему одному видимое. Парню можно было бы дать не менее тридцати, если бы сквозь мягонькую щетинку на его впалых щеках не светился густой, почти мальчишеский румянец.
— Общага у нас в административном корпусе, — походя объяснил он им. Семейные живут в кабинетах, холостые — в хозяйственных загонах. Основные циклы уже закончены, так что в основном — отделочники. У меня в бригаде пять человек, будешь шестым. Зовут меня Осипом, фамилия Меклер. Как вас?
— Николай…
— Антонина…
— Тоню пристроим к нашим женщинам на подсобку.
— Полегче бы ей сейчас чего-нибудь, бригадир, — отвернулся в сторону Николай. — Нельзя ей сейчас особо тяжелого.
Тот живо повернул к ней мгновенно порозовевшее лицо и в близоруком прищуре темных его глаз засветилось ласковое сияние:
— Что ж, возьмем в бригаду седьмого. Не обедняем. — Он остановился перед дверью, на которой красовалось меловое изображение черепа и двух скрещенных костей. — Тоже мне, остряки… Заходите.