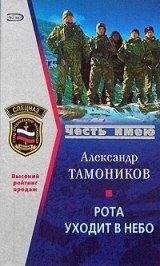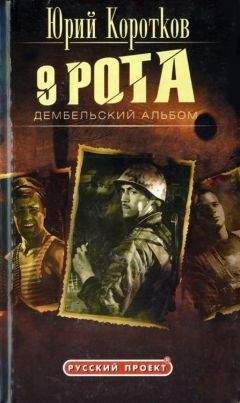Вячеслав Дегтев - Последний парад
— Сейчас вы, насколько я вижу, не кибернетик, а огородник.
Слова ее резанули по живому. Хотел сказать: «Сама-то кто! Расчленительница гармонии!» — но вовремя остановился. Да она и сама поспешно и смущенно заизвинялась и как компенсацию за бестактность предложила зайти попить чаю.
Уже дома рассказала, как оказалась в наших заброшенных палестинах, на этом глухом кордоне, на котором, помнится, раньше обитал диковатый чудак Сабражай. Жила в Тирасполе, родителей там похоронила. была квартира, любимая работа в сельхозНИИ — и вдруг 19 июня 1992 года все началось. Во всех школах были выпускные вечера. Нарядные девочки, мальчики в белых рубашках, а тут БТРы, танки, выстрелы, ужас… Полтора месяца бушевал в городе ад. Из квартир не выходили, передвигались по комнатам ползком, спали под окнами. Но как ни странно, в трубах была вода и работал телефон, можно было позвонить по межгороду — только кому звонить, если во всем мире у Тамары не было ни одной родной души?.. Она обратилась к Богу — под пулями не бывает атеистов. И Господь хранил ее. Однажды во время затишья включила свет на кухне и решила помыть посуду — тут же влетела пуля и разбила тарелку прямо в руках. После этого еще более уверовала, но больше уж не рисковала…
Через полтора месяца, когда все запасы кончились, решили они с соседкой, латышкой Ирмой, уходить из города. Шли по центру. тишина стояла аж звенящая. Всюду лежали вздувшиеся, смердящие трупы… От них сладковато наносило запахом корицы. Они шли, судорожно схватив друг друга за руки, а перед ними, посреди улицы, прямо посреди центрального проспекта, среди щебенки и битого стекла совершенно спокойно ползла аспидно-черная двухметровая эскулапова змея, шурша чешуйчатой кожей. И — звенящая, сладковатая тишина… Вдруг из завалов вышел чумазый румын. Наставил в живот автоматный штык, хищно блеснувший на солнце. «Сейчас посмотрим, — проговорил, — какого цвета кишки у тебя, русская свинья». Тут Ирма быстро-быстро заговорила по-латышски. Румын удивился, опустил автомат и пропустил их.
Потом была страшная двухсоткилометровая дорога до Одессы, через мост в Бендерах, который бомбили и обстреливали «Миги» с красными звездами на плоскостях. Четыре кошмарных, сухогорлых дня в пути.
И наконец Одесса, кипящий вокзал. Давка у билетной кассы. Билеты были почему-то только до Воронежа. Не задумываясь, купила билет, расценив это как перст судьбы, и всю дорогу проспала. приехала в Воронеж, и ей опять повезло: в Хоперском заповеднике, на этом вот кордоне, оказалась вакансия. И вот она здесь и работает почти по специальности, во всяком случае, ей никто не мешает писать докторскую по соловьям. Они тут получше, посильнее, пожалуй, даже курских, которые вообще-то являются эталоном восточного, русского соловья. А уж киевским, которые когда-то тоже гремели, точно дадут фору.
— Странно, — сказал я, — курские находятся на магнитной аномалии, наши — на месте тектонического разлома, и Киев, вместе с Чернобылем, тоже находится на разломе. Вы знаете, что у нас тут, в этом заповеднике, зафиксировано самое большое количество встреч с НЛО?
— Что ж тут удивляться, все закономерно… — глаза ее подернулись таинственным туманцем, и она добавила: — Хорошо, что у вас… у нас тут, — поправилась, — не догадались атомную станцию построить или что-нибудь подобное… Так чем же вы все-таки занимаетесь?
Я обрадовался ее вопросу и рассказал, что последнее время занимаюсь торсионными полями. Это неизученные энергии, пронизывающие всю Вселенную, это некое всемирное информационное поле. Наблюдательные люди давно уже заметили, что есть нечто, что не укладывается в обычную логику. например, если о ком-то страстно говоришь — не имеет значения, плохо или хорошо, главное, страстно, сильно, — то этот объект как-то себя проявит: или неожиданно появляется вдруг, или звонит, или еще как-то о себе заявляет. Так же если о чем-то очень страстно мечтаешь, то рано или поздно мечты и желания чудесным, казалось бы, образом сбываются («Молитвы дошли до Бога!» — вставила она, на что я непроизвольно поморщился), и сбываются пропорционально желанию или потраченным силам. Воистину, кто всем сердцем просит, тот уже имеет…
— В Евангелии это звучит так: каждому да будет по вере его, — опять добавила она, и я опять непроизвольно поморщился, и она заметила это, и мне отчего-то сделалось неловко.
Когда продолжил, что торсионные поля есть основа всего мироздания, — она поспешно, обрадованно закивала:
— Да, да, это, похоже, как раз то, что в религии называют Духом Святым, который веет где хочет и которому нет преград ни во времени, ни в пространстве.
— Да, — добавил я растерянно, — и где тысяча лет может быть как миг и миг — как тысяча лет — ведь фактор времени в формуле, которую я вывел, отсутствует…
Я хотел рассказать еще об эгрегорах — субстанциях из сгустков тонких материй, — о том, что каждый субъект в мире, и живой, и мертвый (что, кстати, относительно), имеет свой эгрегор и что умершие и выдуманные персонажи точно так же существуют в «тонком мире», в мире торсионных полей, как и мы, и еще не известно, кто живее, кто реальнее, — но не сказал, пропал вдруг интерес, да и пора было откланиваться.
Когда вышли на крыльцо, над лесом рдяно горели дальние кучевые брюхатые облака, и казалось, что полыхало полнеба и пол-леса. В багровом лесу заливались наши подопытные певуны. Я потянулся счастливо — счастливо за многие последние серые, беспросветные годы (лишь работа спасала), — потянулся и сказал с улыбкой:
— Так вы говорите, что соловьиная песня — это воплощение Святого Духа? Хм… В этом что-то есть. А нельзя ли позаимствовать у вас кассету со Святым, так сказать, Духом?
— Почему же нельзя? Можно. Будете приобщаться к нашей вере.
— Вы хотите сказать — науке?.. — поправил ее.
Ничего не сказала она мне в ответ, лишь улыбнулась жалостливо. Странно, современная вроде женщина, кандидат наук, а в голове черт знает что…
Несколько дней я слушал эту кассету с лучшими песнями лучших певцов нашего заповедного леса. И выявил в песнях некую закономерность. Ох уж эта математика, — привычка расчленять нерасчленимое…
И однажды ночью мне придет в голову шалая, сумасшедшая мысль, которая уж не станет давать покоя. Возбужденный ею, я выйду как-то покурить в майский, духовитый, залитый полной луной сад, где происходило ежегодное великое таинство. Пройдя цветущий сад, остановлюсь на краю огорода — воздух будет звенеть от соловьиных трелей, — остановлюсь и увижу на соседнем огороде белую лысую фигуру деда Васяки. Он будет рассевать что-то из лукошка — совершенно голый, лишь в валенках.
Я окликну его. Он охотно отзовется простуженным голосом. И объяснит, что сеет ячмень. А чтоб урожай удался, делать это нужно ночью, в полнолуние, и обязательно мужику, и обязательно телешом обсеменять землю, и чтоб при этом таинстве не находилось бы ни баб, ни посторонних: чтоб земля не ревновала. Я пожму плечами: да что они тут все, с ума посходили? Вроде здравомыслящий человек, бывший агроном, а такие дикие суеверия.
Эта ночная встреча только еще сильнее укрепит меня в желании исполнить свою внезапно пришедшую идею. Ничего не говоря Тамаре, через десять дней я уеду в город, чтобы попытаться осуществить задуманное. Чтобы поразить ее и, может, даже заставить признать свое поражение.
x x xДа, я решил взять реванш. Созвонился с коллегами. Сошлись мы в пустынной лаборатории, объяснил я им задуманное, и один за бутылку водки собрал мне микросхему, другой за ведро картошки спаял корпус и сделал всю механику, третий бесплатно, из чистой «любви к искусству» рассчитал интегральную амплитуду, а Эдик, старый друг, заядлый птицелов, а также великий художник, не входящий в число «великих» художников, одел моего певца в настоящие перья — и вот через две недели он уже стоит передо мной на столе: рыжеватый, тонкий, глазастый (глаза из черной яшмы), на высоких ножках, эдакий крупноватый, даже дородный, но поменьше певчего дрозда, лупоглазо-удивленный и очень изящный, как-то по-благородному осанистый. Хвост рыжий, спинка коричневатая, снизу весь серый, до пепельного, белогорлый, словно там у него галстук-бабочка. Эдик сказал, не соловей, а просто аристократ соловьиный. Правда, конечно, тяжеловат против живого-то. Когда прыгает по столу — аж пепельница подскакивает. Что ты хочешь — железный!
В тот день, когда мы собрали его, был как раз православный праздник — день Кирилла и Мефодия, учителей словенских. Я и назвал его Кириллом, Кирюхой. И даже «научил» откликаться на это имя, а также начинать всякий раз песню с кирилловой дудки: кирил-кирил-кирил… А петь он начинал, если произносились слова: «Леня! Любимый!»
И чтоб совсем уж сбить с толку Тамару, решил посадить его в настоящую клетку и в ней преподнести. Посмотрим, раскусит ли подвох… Я восторженно потирал руки, предвкушая ее удивление, ее шок, и проигрывал мысленно ее реакцию на то, когда раскрою карты, — и что она скажет на это, и как поведет себя.