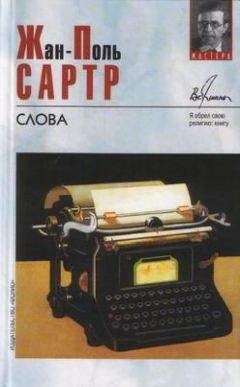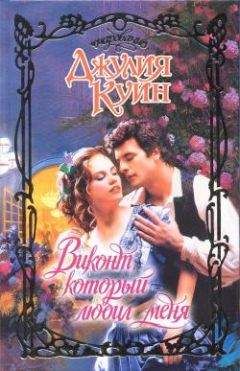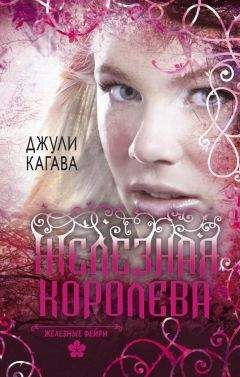Жан-Поль Сартр - II. Отсрочка
Огни казино отвлекли его от мечтаний, звуки музыки лились через открытые окна, черный автомобиль тихо замер у подъезда. «Еще один год», — раздраженно подумал он.
Было за полночь, Шпортпаласт был темен и пуст, кругом перевернутые стулья, раздавленные окурки сигар, господин Чемберлен говорил по радио, Матье бродил по перрону Вье-Пор, думая: «Это болезнь, именно болезнь, она свалилась на меня случайно, она меня не касается, нужно принимать ее со стоицизмом, как подагру или зубную боль». Господин Чемберлен сказал:
«Я надеюсь, что рейхсканцлер не отвергнет это предложение, составленное в том же духе дружбы, в котором я был принят в Германии, и, в случае его принятия, Германия осуществит свое желание объединиться с Судетами, не пролив ни капли крови ни в одной точке Европы».
Он сделал движение рукой, показывая, что он закончил, и отошел от микрофона. Зезетта не могла уснуть, она стояла у окна и смотрела на звезды над крышами, Жермен Шабо спустил брюки в туалете. Борис ждал Лолу в холле казино; повсюду в воздухе, почти никем не услышанный, тщился распуститься темный цветок «If the moon turns green»[56], выращиваемый джазом отеля «Астория» и транслируемый Давентри.
ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
Двадцать два часа тридцать минут. «Месье Деларю! — удивилась консьержка. — Вот так сюрприз! Я вас ждала только через неделю».
Матье ей улыбнулся. Он предпочел бы пройти незамеченным, но нужно было попросить ключи.
— Вы-то по крайней мере не мобилизованы?
— Я? — переспросил Матье. — Нет.
— Ага, — сказала она. — Тем лучше! Тем лучше! Такое всегда приходит слишком рано. Ох уж эти события! Столько всего произошло после вашего отъезда. Вы думаете, это война?
— Не знаю, мадам Гарине, — ответил Матье. — Он живо добавил: — Есть какая-нибудь почта?
— Да, я вам все туда отправила. Еще вчера я отправила какую-то повестку в Жуан-ле-Пэн; если бы вы меня только предупредили, что возвращаетесь. Да! Сегодня утром пришло для вас еще вот это.
Она протянула ему длинный черный конверт; Матье узнал почерк Даниеля. Он взял письмо и положил его, не распечатав, в карман.
— Вам ключи? — спросила консьержка. — Эх! Как досадно, что вы не смогли предупредить о своем приезде: я бы успела прибрать. А сейчас… Даже ставни не открыты.
— Пустяки, — сказал Матье, беря ключи. — Пустяки. Всего доброго, мадам Гарине.
Дом был еще пуст. Снаружи Матье уже заметил, что все ставни закрыты. С лестницы на лето убрали ковер. Он медленно прошел мимо квартиры на втором этаже. Раньше там кричали дети, и Матье часто вертелся в постели, просыпаясь от воплей очередного младенца. Теперь комнаты за закрытыми ставнями были темны и пусты. Каникулы. Но в глубине души он думал: «Война». Это была война, эти ошеломленные каникулы, укороченные для одних, продленные для других. На третьем этаже жила содержанка: аромат ее духов нередко просачивался под дверь и распространялся по лестничной площадке. Сейчас она, должно быть, в Биаррице, в большом отеле, изнуренном жарой и беспорядком в делах. Он дошел до четвертого этажа и повернул в скважине ключ. Под ним, над ним — камни, ночь, тишина. Он вошел в темноту, в темноту положил чемодан и плащ: прихожая пахла пылью. Он стоял неподвижно, опустив руки, погребенный в темноте, потом вдруг повернул выключатель и одну за другой прошел комнаты квартиры, оставляя двери открытыми; он зажег свет в кабинете, в кухне, в туалете, в спальне. Все лампы сверкали, непрерывный поток света циркулировал между комнатами. Он остановился возле кровати.
Кто-то там недавно спал: одеяло свернулось трубочкой, наволочка была грязной и мятой, крошки от рогалика усеяли простыню. Кто-то: «Я сам». Он думал: «Это я спал здесь. Я, пятнадцатого июля, в последний раз». Но он с отвращением смотрел на постель: его прежний сон охладился в простынях, теперь это был сон другого.
«Я не буду здесь спать».
Он отвернулся и прошел в кабинет: отвращение не покидало его. Грязный стакан на камине. На столе, рядом с бронзовым крабом, сломанная сигарета: из нее торчало множество сухих былинок. «Когда я сломал эту сигарету?» Он надавил на нее и почувствовал под пальцами скрип сухих листьев. Книги. Том Арбле, другой — Мартино, «Ламьель», «Люсьен Левен», «Воспоминания самовлюбленности». Кто-то намеревался писать статью о Стендале[57]. Книги оставались здесь, а окаменевший план стал предметом. Май 38-го года: тогда еще не было абсурдно писать о Стендале. Предмет. Такой же, как их серые обложки, как пыль, осевшая на их корешках. Непрозрачный, пассивный предмет, непроницаемое нечто. Мое намерение.
Его намерение выпить, которое отразилось тусклыми пятнами на прозрачности стакана, его намерение курить, его намерение писать, человек развесил свои намерения повсюду. Вот кресло из зеленой кожи, где человек сидел вечерами. Сейчас вечер: Матье посмотрел на кресло и сел на краешек стула. «Твои кресла действуют развращающе». Кто-то однажды сказал это как раз здесь: «Твои кресла действуют развращающе». На диване светловолосая девушка гневно трясла локонами. В это время человек едва видел локоны, едва слышал голос: он видел и слышал сквозь них свое будущее. Теперь человек уехал, увозя свое лживое старое будущее; былое понемногу охладилось, оно оставалось здесь, пленка жира, застывшая на мебели, голоса, витающие на уровне глаз: они поднялись до потолка, потом упали, взлетели снова. Матье почувствовал себя нескромным, он подошел к окну и открыл жалюзи. На небе еще были остатки дня, некий безымянный свет: он вдохнул полной грудью.
Письмо Даниеля. Он потянулся было за ним, затем опустил руку на подоконник. Даниель ушел по этой улице июньским вечером, он прошел под этим фонарем: Матье тогда, встав у окна, проводил его взглядом. Этому человеку писал Даниель. Матье не хотел читать его письмо. Он быстро повернулся и с сухой радостью пробежал глазами по письменному столу. Они все там, запертые, мертвые — Марсель, Ивиш, Брюне, Борис, Даниель. Они туда пришли, они там были схвачены, они там останутся. Гнев Ивиш, упреки Брюне, Матье о них вспоминал уже с той же беспристрастностью, как о смерти Людовика XVI. Они принадлежали прошлому миру, но не его личному прошлому: у него не осталось собственного прошлого.
Он закрыл ставни, пересек комнату, поколебался и, поразмыслив, оставил лампу зажженной. Завтра утром приду сюда забрать чемоданы. Он закрыл входную дверь, оставив всех и все внутри, и спустился по лестнице. Там, у него за спиной электрические свечи всю ночь будут освещать его мертвую жизнь.
— О чем ты думаешь? — спросила Лола.
— Ни о чем, — ответил Борис.
Они сидели на пляже. Лола в этот вечер не пела, потому что в казино был гала-спектакль. Перед ними прошла пара, затем солдат. Борис думал о солдате.
— Не дуйся. Ну, скажи мне, о чем ты думаешь? — настаивала Лола.
Борис пожал плечами:
— Я думал о солдате, который только что прошел мимо.
— Да? — удивилась Лола. — И что же ты о нем подумал?
— А что, по-твоему, я мог подумать о солдате?
— Борис, — простонала Лола, — что с тобой? Ты был таким милым, таким нежным. И вот ты снова принялся за старое. Ты мне ничего не рассказал о том, как провел день.
Борис не ответил, он думал о солдате. Он думал: «Ему повезло, а мне еще ждать целый год». Один год: он вернется в Париж, будет гулять по бульвару Монпарнас, по бульвару Сен-Мишель, который он знал наизусть, пойдет в «Дом», в «Купол», каждую ночь будет спать у Лолы. «Если бы я мог видеться с Матье, это было бы замечательно, но Матье мобилизован. А мой диплом!» — вдруг подумал он. Ко всему, была еще эта скверная шутка: диплом о высшем образовании. Его отец наверняка потребует, чтобы он был ему представлен, и Борис будет вынужден предъявить диссертацию о воображении у Ренувье или о привычке у Мэн ле Биран. «Зачем они все ломают комедию?» — с раздражением подумал он. Его воспитали для войны, это было их право, но теперь его хотят принудить получить диплом, будто ему предстояла целая мирная жизнь. Будет просто смешно: весь год он будет ходить в библиотеку, будет делать вид, что читает полное собрание сочинений Мэн ле Биран в издании Тиссерана, будет делать вид, что конспектирует, будет имитировать подготовку к экзамену, а сам при этом будет безостановочно думать о том настоящем экзамене, который его подстерегает; он будет непрерывно думать, трус он или храбрец. «Если бы не было этой, — подумал он, бросив недоброжелательный взгляд на Лолу, — я бы сейчас же пошел добровольцем, и им всем бы стало кисло».
— Борис! — испуганно вскрикнула Лола. — Что ты на меня так смотришь? Ты меня больше не любишь?
— Наоборот, — сквозь зубы процедил Борис. — Ты даже представить себе не можешь, как я тебя люблю. Ты даже не подозреваешь.
Ивиш зажгла лампу у изголовья и совсем голая легла на кровать. Она оставила дверь открытой, наблюдая за коридором. На потолке был круг света, а остальная часть комнаты оставалась синей. Синий туман висел над столом, пахло лимоном, чаем и сигаретным дымом.