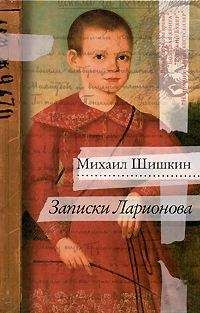Михаил Шишкин - Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова
Сашенька стал средоточием жизни моей. Он был моей радостью, единственным моим богатством, единственным, что давало мне силы.
Летом, когда было полно дел, я не видел его целыми днями. С утренней зари я отправлялся на работы и возвращался уставший, весь в пыли, к обеду. Я брился раз в неделю, ходил с черно-желтым лицом, в нанковом запачканном сюртуке, в стеганом картузе. К моему приходу Сашеньку уже укладывали спать в саду, под парусиновым пологом. Я осторожно, чтобы не разбудить, подходил и целовал его в загорелый лобик. После обеда я снова уходил и возвращался поздно, когда его уже убаюкивали на ночь. Я жил и не понимал, вернее, мне некогда было понять, что я счастлив, ибо что еще есть счастье, если не это: притащиться усталым домой, помолиться на ночь за ребенка, перекрестить его и заснуть крепко-крепко.
Чем старше он становился, тем с большей тревогой я замечал, что между нами росло еле заметное пока отчуждение. В этом маленьком человечке мне виделся я сам, но Сашенька все время отдалялся от меня, я вдруг обнаруживал в нем незнакомые, неприятные мне черты.
Он научился вдруг врать. Причем обманывал удивительно, глазами.
— Сашенька, — скажу я ему. — Ведь это же неправда, то, что ты мне говоришь. Ну, посмотри мне в глаза!
И он смотрит на меня с такой обидой, сквозь слезы, что я сам же прошу у него прощения. А потом, когда выявится обман и я хочу отругать или наказать его как-то, он глядит на меня волчонком, и если я тащу его в чулан, в угол, вырывается, кусается и бьется в злых рыданиях.
Откуда-то взялась в нем жестокость. Я приучал его относиться ко всем окружающим, и к животным, и к людям, с лаской. Но он часами бегал по саду с рампеткой и, поймав кузнечика или бабочку, с наслаждением жег их на солнце под увеличительным стеклом. В другой раз я застал его за тем, что с деревенскими мальчишками он надувал через соломинку лягушку. Вообще, к книжкам не умел его приохотить, а с детьми дворовых он мог носиться без конца, все его тянуло на задний двор, в нечистую людскую. Я пытался учить его рисовать, играть на флейточке, но он убегал от меня и заводил вместе с Катьками, Машками и Николашками «А мы просо сеяли, сеяли! А мы просо вытопчем, вытопчем». Однажды он увидел, как конюх топил щенят. Мой Сашенька плакал целый день, и я не знал, как утешить его. А потом, когда разродилась кошка, он сам утопил котенка. Он придумывал все время какие-то жестокие игры. Я ругал его, а он не понимал, почему я сержусь на него.
Матушке становилось все хуже. Ее выводили на крыльцо, и она сидела там в кресле, положив ноги на скамеечку.
Ей все чаще снились какие-то тяжелые сны, и она всякий раз справлялась с сонником, что значат ночные видения. Глаза отказывали, и, помню, однажды она попросила меня:
— Саша, сыночек, будь добр, посмотри, что там значат змеи. Страх Божий! Всю ночь меня змейки мучили.
Я отыскал слово и начал читать:
— Змей видеть во сне здоровому — предвещает победу над врагом.
Я остановился.
— Но у меня нет врагов, — сказала она и велела читать дальше. Дальше были слова:
— Больному же предвещает смерть.
Матушка горько улыбнулась.
— Вот на этот раз сонник не врет. В этом году я умру.
— Ну что ты говоришь! — стал успокаивать я ее, но она только сокрушенно качала головой.
На следующий же день в окно нам залетела птица и долго билась о стекла. Тут матушка совсем поверила в свою близкую смерть и стала гаснуть на глазах.
Она души не чаяла в Сашеньке, а он, как подрос, стал сторониться ее, часто обижал до слез. Игрушками, сладостями она пыталась как-то приручить его к себе, добиться ответной ласки, нежности, но он только хватал гостинец и убегал.
Последние месяцы она не выходила уже из своей комнаты и просила, чтобы Сашенька поиграл у нее, но прийти к бабушке невозможно было его заставить. Я тащил Сашеньку за руку, но он ревел:
— Не хочу, не хочу туда, от нее пахнет!
Матушка умерла осенью. Октябрь стоял сухой и теплый. Вершины берез были покрыты вороньими гнездами. Вечерами вороны хрипло, простуженно каркали, низко перелетая с дерева на дерево, и последние дни матушка все время смотрела на них в окно.
В предсмертье она вдруг заволновалась, тревожно кричала. Лишившись языка еще за полчаса до смерти, хотела написать что-то на аспидной доске.
Когда она отошла, Елизавета Петровна перекрестила сестру, поцеловала в губы, закрыла ей глаза, сняла свой платок и подвязала матушке подбородок.
Отпевали ее в нашей церкви. На голову надели кайму с печатными образами и полили волосы маслом из чашки. На кладбище несли ее по нашей аллее, устланной только что опавшим липовым листом. Перед тем как заколотили гроб, я все хотел, чтобы Сашенька поцеловал бабушку, но он испугался, закатил истерику, и я отстал от него.
Сашенька рос, нужно было заботиться о его образовании. Мы наняли ему учителя из семинаристов, неуклюжего, но ученого молодого человека. Он взялся за первого своего ученика с азартом, но остыл очень скоро. Писать Сашенька ленился. От арифметических примеров его тянуло в сон. Зато, наслушавшись о Спарте, он стал окатывать себя ледяной водой, гулять босиком по росе, по дождю, отрекся, правда ненадолго, от чая, лакомств. Над учителем своим Сашенька смеялся и устраивал ему злые проказы. Однажды даже испортил его единственный сюртук чернилами. Я наказывал сына, но это только ожесточало его.
Тетка все пыталась приучить его молиться. Над кроваткой висел образок, перед которым она упрашивала его сказать молитву. Он крестился кое-как, зевал, озираясь во все стороны, и, пробурчав что-то, убегал.
Принялись учить его музыке, засадили за пьесы Штейнбельта и Фильда. Занимался он, что называется, из-под палки, а кончилось все тем, что однажды, забравшись на стул, он слишком наклонился над пюпитром и обжег о свечу ухо и клок волос.
Подошло время, и мы отдали его в нашу симбирскую гимназию.
Я привел его за руку в то самое ненавистное мне здание на Венце. В нем все перестроили, но чугунная лестница, истертая и моими ногами, осталась. Учителя все были новые, но за эти годы в жизни гимназии, кажется, ничего не изменилось.
Я боялся, что Сашеньку моего будут травить, как травили когда-то меня, но обнаружилось, что он сам очень скоро стал заводилой в проказах. Дело чуть даже не дошло однажды до исключения его за драку.
Зимой темнело рано, и я встречал его у дверей гимназии. Потом я заметил, что он стеснялся, стыдился меня перед своими товарищами, нарочно подсылал кого-нибудь из них сказать мне, что он уже ушел.
За годы гимназии Саша удалился от меня еще больше. Он ничего мне не рассказывал. Я ничего не знал о нем: кто его друзья, чем он интересуется, о чем думает. От классного наставника как-то раз я узнал, что он подбивает других мальчиков курить, пробовать вино.