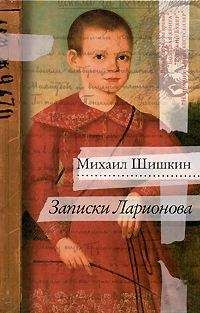Михаил Шишкин - Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова
Я исписал всю бумагу, которую дал мне Маслов, попросил еще и все не мог остановиться.
Маслов, сказав, что не будет мешать мне, вышел, и из соседней комнаты время от времени доносился его кашель.
Исписанные перья пачкали чернилами бумагу, я бросал одно, хватался за другое. Строчки разбегались вкривь и вкось. Я спешил, писал, не промокая клякс, не понимая, сколько прошло времени, час, а может быть, целый день. Солнце залило стол, я обливался потом, но мне некогда было задернуть шторы.
Помню, что я очень устал. Дело было не в руке, которая ныла. Когда я собрал все исписанные мною листки и протянул их Маслову, меня охватила какая-то апатия. Вдруг заболела голова, сильно застучало в висках — сказалась бессонная ночь. Без сил я уселся на диван и прикрыл глаза.
Маслов читал написанное мною долго, не спеша, переспрашивая меня в тех местах, где был неряшлив почерк, делая карандашом на полях какие-то заметки.
Он читал в очках и часто снимал их, разглядывая стекла на свет, дышал на них, протирал фуляровой тряпочкой.
— Вы не верите мне? — спросил я, когда он дочитал до конца.
Маслов усмехнулся.
— Отчего же, верю. Более того, скажу, что бумаги эти для вас значат больше, чем для меня.
— Простите, я не совсем понимаю…
— Что ж здесь не понять? На почте мне удалось перехватить письмо, отправленное им. Теперь я вижу, что вы не были с ним заодно.
Маслов встал, подошел ко мне и вдруг протянул руку.
— Благодарю вас за искренность.
Я пожал ее.
— И что же теперь? — спросил я, ничего не понимая.
— Теперь не смею задерживать вас более. А я должен заняться неотложными вещами. И даю вам слово, что сделаю все возможное, чтобы вас не беспокоили более по этому неприятному делу. Что же вы, идите!
Я встал и пошел к дверям как в бреду. Только выйдя в коридор, вспомнил, что нужно же было что-то сказать, попрощаться, поблагодарить. Я вернулся.
Маслов снял с себя сюртук и надевал мундир.
— Господи, что еще? — недовольно спросил он.
— Скажите, я могу надеяться, что Степан Иванович…
— Ну же?
— …что он ничего не узнает? — Я кивнул на мои бумаги, что лежали на столе.
Маслов усмехнулся.
— Что ж, если это так важно для вас.
— Благодарю, — сказал я и прикрыл за собой дверь.
У ворот стоял извозчик.
— Садитесь, ваше благородие!
Я залез к нему.
— Что, барин, молчишь? Куда везти-то?
Меня вдруг охватило странное желание искупаться.
— Вези к Волге, — сказал я.
Он плюнул, присвистнул, хлестнул вожжами, и мы не спеша покатили. Помню, как ехали мимо длинного университетского забора, потом перемахнули по мосту через Булак, доехали почти уже до Адмиралтейской.
Вдруг что-то случилось со мной.
— Поворачивай! — крикнул я. — Ну, скорее! Скорее! Мчи на Большую Казанскую!
Извозчик развернул лошадей, и мы помчались обратно в Казань. Хотя он хлестал лошадей, мне все казалось, что мы еле тащимся, и я все время кричал и подгонял его кулаком, поддавая ему то в спину, то в ухо.
Знал ли я сам, зачем так рвался туда?
— Стой! — крикнул я, как только мы завернули на Большую Казанскую.
У дома, где жил Степан Иванович, стояло несколько экипажей, толпились какие-то люди, прохожие, соседи. Я швырнул извозчику ассигнацию и соскочил на землю.
Сперва я бросился туда, к ним, но там началось какое-то движение, люди отпрянули от ворот, и на улицу вышли сперва несколько солдат, за ними показался Степан Иванович. Руки он держал за спиной. Лицо его было бледно, но он старался не подавать вида, что растерян, и спокойно спросил что-то шедшего за ним Маслова, наверно, в какую коляску садиться, потому что тот кивнул ему, куда идти. Последним показался Солнцев. Я видел, как он щурил глаза на солнце, как посмотрел на свои часы. Когда садился в карету, он взглянул в мою сторону, потом, высунувшись, еще несколько раз бросал взгляд в тот конец улицы, где стоял я. Мне показалось, что он заметил меня.
Все расселись, и экипажи тронулись. Они поехали прямо на меня. Я быстро свернул за угол и стоял, спрятавшись за дерево, пока перестук копыт и скрип колес не замерли в отдалении.
До вечера я бродил по улицам, не разбирая дороги, не зная, куда иду и зачем.
Когда я пришел домой, на меня набросился Нольде.
— Александр Львович, наконец-то! Радость-то какая! Вот, возьмите, читайте, читайте!
Он совал мне какую-то бумагу. Я стал невольно читать ее. В ней сообщалось, что их сын направляется рядовым в действующую армию с правом выслуги.
— С правом выслуги! Вы видите, с правом выслуги! — кричал старик. От волнения он совсем задыхался. — Господи, вот так счастье!
На следующее утро я встал на рассвете, быстро оделся и осторожно, чтобы никого не разбудить, вышел из дома. На извозчике добрался до волжской пристани. Там я быстро нашел купца, чья барка отправлялась в то же утро вниз по Волге до Астрахани, и мы договорились, что он возьмет меня пассажиром.
Я сидел на каких-то мешках на корме и целый день смотрел на берега: левый, облитый солнцем, с лугами, поднимавшимися до края неба, и правый, взметнувшийся крутыми утесами вверх. Мимо проплывали колокольни на всяком изгибе, кресты церквей над зеленью деревьев, желтые отмели, переправы, пристани.
К вечеру на реке поднялась рябь. Ветер нагнал тучи. С темнотой начался дождь. Меня звали вниз, но я отказался и просидел всю ночь, укрывшись рогожей, глядя на дождь и на воду, черную и густую.
К Симбирску подошли уже вечером следующего дня. Издали я увидел Венец на высоком правом берегу и еле дождался, пока положат сходни.
Все были в деревне, в доме огни не горели, было темно и пусто. Я хотел ехать немедленно, но меня отговорил дворник. Наши лошади были в Стоговке, и никто не согласился бы ехать на ночь глядя в такую даль. Я остался ночевать один в пустом доме. Жена дворника принесла мне миску щей, но я даже не притронулся к ней. Мне ничего не хотелось: ни пить, ни есть, ни спать. Всю ночь я бродил по комнатам, вспоминая вещи и запахи.
Дворник нанял коляску, запряженную парой, и утром рано я выехал из Симбирска, а после обеда уже подъезжал к нашему парку, и из-за деревьев проглядывал пруд, заросший еще сильнее.
На дворе никого не было.
Я поднялся на крыльцо, вошел на террасу. На столе был накрыт чай, стоял горячий самовар, но тоже было пусто. Я пододвинул стул и сел к столу. Тут дверь отворилась, и на террасу вышла Нина, в руках у нее были отколотые куски сахара и щипцы.
— Здравствуй, — сказал я.
Увидев меня, она даже не вздрогнула. Лицо ее не выразило ни удивления, ни испуга, ни радости. Она спросила, как будто вовсе не было этих двух лет: