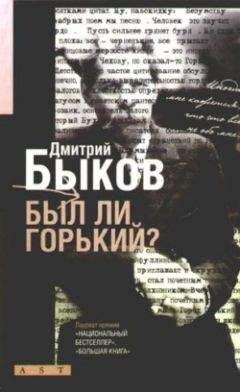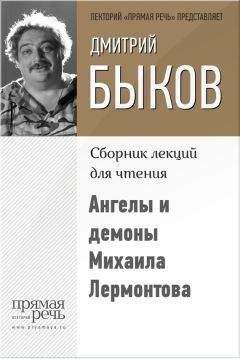Дмитрий Быков - Оправдание
Почтамт он придумал давно, еще в Чистом. Хорошее место, лучшее для встречи: много людей, светло, празднично. Все ждут писем, отправляют письма. Он все-таки жалел, что в Чистом не бывает писем, хотя, естественно, умел подавлять подобные импульсы. Встретиться вне дома было необходимо, чтобы сразу избежать неловких ситуаций: вдруг он придет и увидит там другого мужчину, он не просил Грохотова проверять еще и это, человек занятой, для чего же обременять. Да и как проверишь. Надо испытать Марусю, придет ли: если придет, значит, ему можно в дом. Может оказаться, что заявляться сразу еще по каким-либо причинам неудобно; и вообще — удачная разведка есть уже половина боя. Холод — это наша есть жизнь. Вот неотвязная фраза!
— Я все передам, — робко сказала девочка. — А когда… когда можно будет…
— Я скоро приду, — весело уверил ее Скалдин. — Ты как учишься?
— На отлично, — ответила дочь дрожащим голосом.
— Вот и очень хорошо. Ну, до свидания.
Он повесил трубку и только теперь ощутил, как голоден, какой прекрасный солнечный день в Москве, как радостно начало осени, а вместе с нею и трезвых, сильных холодов Родины, проверяющих на подлинность все живущее. Он задержался в Омске, ожидая ответа от Грохотова, — не хотел ехать наобум лазаря, — и в Москву прибыл только пятого сентября; жильем в Омске его готовы были обеспечивать долго, выслужил, и он прожил у тихой хозяйки две недели, ожидая подтверждения из Москвы. Как выяснилось, Грохотов не обманул.
Кафе — роскошь, денег мало; он направился прямо в гастроном близ трех вокзалов, новый, до войны его не было. Во всем этом новом московском великолепии была доля и его труда. Да, тяжеловато, несколько избыточно, хотелось бы большей аскезы; но в столице можно позволить себе царственную пышность. Прочая страна и так жила аскетически, — он видел, знал. Холод — это наша есть жизнь.
— Сарделечек килограммчик, — ворковала женщина прямо перед Скалдиным.
Он простоял в очереди за своей бутылкой кефира и полубуханкой пеклеванного уже полчаса, и от недавней гордости не осталось и следа. Москва жрала, Москва вырождалась. С кем мы будем побеждать? А ведь если нам еще воевать и строиться, нужны настоящие люди, неужели всех перековывать? Никаких кузниц не хватит!
— Яичек десяточек, — и долгая, долгим недоеданием воспитанная нежность к еде звучала в ее невыносимом голосе. — Яички свеженькие у вас?
Интересно, какой ответ она ожидала услышать? Голос ее был влажен, в нем звучало отвратительное гортанное бульканье, сырой подспудный призвук; и еда, которую она выбирала, по консистенции была этому голосу под стать. Разумеется, яички она произносила как иички, даже — йийички.
А ведь по-настоящему-то не голодала, подумал Скалдин. Он легко отличал людей, хлебнувших лиха хотя бы неполным хлебком: беда придавала им не то чтобы благородства — из иного дерева не выточишь ферзя, — но хотя бы минимальную сдержанность. Эта же была говорлива: она могла теперь поговорить, долго и с наслаждением позаказывать. Скалдин не терпел и барственности, жалкого снобизма бывших, который теперь только и мог проявляться в ресторанах да магазинах (он помнил еще довоенное, дочистовское — до всего — посещение ресторана с Марусей, их единственный поход в «Рыбацкий», что близ Курского): отвратительную манеру подзывать официанта, манеру, в которой сочеталось презрение к лакею и вместе с тем тайное подмигиванье (оба из тех), связь с ним — палача с жертвой: принесите ветчины, но проследите, чтобы ветчина была настоящая. Сволочь, тебе бы брюквы. Но эта крайность — уменьшительно-ласкательное обожание, преклонение перед едой, жалкая попытка выбрать из того никакого ассортимента, который возник после отмены карточек, — была еще отвратительнее. И он еле выдерживал злобу, душившую его. Эта же злоба душила его внука Рогова, стоявшего теперь в очереди в продовольственном магазине «Березонька» напротив гостиницы «Юбилейная» в Омске. Женщина перед ним неутомимо перечисляла:
— Шпроточек баночку… пожалуйста, сырочку еще… хороший сырочек? — (Сырочек был один, пресный «Адыгейский», больше похожий на слежавшийся творог.) — Хлебушка, пожалуйста, батончик… маслица пачечку…
Вас бы в Чистое, думали дед и внук, всех бы вас в Чистое. Человек был везде, человек стоял в очередях и давился в транспорте, человек занимался решением своих копеечных проблем и переваливанием их на окружающих, все было человеком, человека не должно было больше быть. Человека развелось невероятно, нечеловечески много. Его надо было отфильтровать, сжать, прокипятить в десяти водах — да не так, понарошку, как в Константиновой коммуне, а так, чтобы великое общее дело заслонило все его частные интересы, чтобы он думать забыл про свое здоровье и погоду, чтобы ему навсегда расхотелось «йийичек». Скалдин не помнил, как достоял эту очередь.
И как очутился на Арбате, он тоже не помнил.
Он потом себя уговаривал, что разведка есть разведка, нельзя же не узнать хотя бы, как они живут. Двор его дома был тот же самый, прежний. Марина вернется только в шесть, сейчас пять. Он поднялся по лестнице, по которой спустился в декабре тридцать восьмого. Прибитый им ящик для почты висел на своем месте. Вот, порадовался он. Была война, бомбежки, черт знает что, а ящик висит. Хорошо сделанная вещь есть хорошо сделанная вещь.
Я вернулся, рапортовал он лестнице, чувствуя уважение к ее крепким ступенькам и грязным, но целым, выстоявшим стенам дома. Я ушел и вернулся, вот я здесь, крепкий, не погнувшийся. Вы целы, я цел. Я знал, что вернусь сюда, и докладываю: вот — я — здесь, по слову на ступеньку. И никакой одышки. А ведь сорок. И почти никакого сердцебиения. Разумеется, звонить в дверь он не будет. Он просто показывает этой двери, что цел.
(Если бы мать знала, что он за дверью, — что сделала бы она? Выбежала бы к нему навстречу, повисла на нем? Нет, едва ли. Скорее всего с таким же бешено бьющимся сердцем, с расширенными сухими глазами замерла бы с той стороны, боясь пошевелиться.)
Так они постояли друг против друга. Потом одновременно повернулись и пошли каждый своим путем: Скалдин во двор, Катя — читать про Смутное время.
Во дворе Скалдин уселся на скамейку (новую, раньше не было), закурил и стал смотреть на детей, играющих в песочнице, и на молодую мамашу с мальчиком лет пяти, сидевшую на соседней лавочке. Мальчик ползал по лавочке и не хотел слушать стихи, которые мать ему читала по толстой синей книге. Скалдин прислушался.
Ночь идет на мягких лапах,
Дышит, как медведь.
Мальчик создан, чтобы плакать,
Мама — чтобы петь.
Отгоню я сны плохие,
Чтобы спать могли
Мальчики мои родные,
Пальчики мои.
Ну зачем вот все это — мальчики, пальчики?! Зачем все это? Кого они, в конце концов, растят? Есть же, например, Аркадий Гайдар… Скалдин отвернулся.