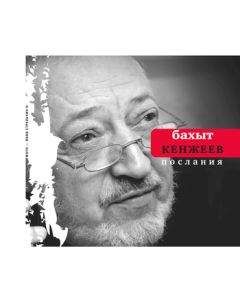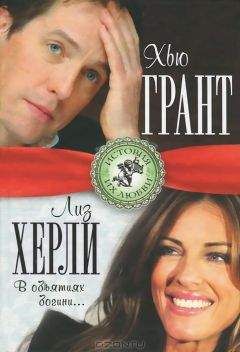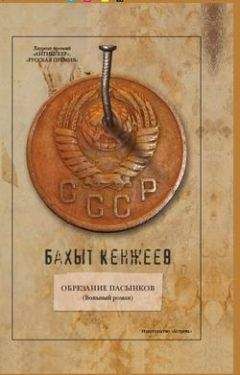Бахыт Кенжеев - Младший брат
Марк посмотрел на злосчастную батарейку, на шкалу вольтметра, где тонюсенькая стрелка медленно, но неудержимо ползла в сторону нуля... И вдруг расхохотался неудержимым, нескончаемым, оглушительным истерическим смехом. Сбитый же с толку Истомин поначалу порывался что-то лепетать, но вскоре просветлел, робко ухмыльнулся и, наконец, присоединился к приятелю. Трое старушек, гревших на солнце свои кости у подъезда, оторвались от вязания и закинули головы кверху, гадая, с какого этажа доносятся эти жуткие квакающие звуки, перемежающиеся всхлипами и пристанываниями, и не надо ли, случаем, вызвать «скорую помощь» из психушки.
Через час с чем-то молочная лужа на полу исчезла, Иван с Марком сидели каждый в своем кресле и довольно мирно приканчивали бутылку коньяку, начатую еще позавчера.
— Все у меня погибло,—хмурился Иван, поднося зажженную спичку к своей исповеди, — мы с тобой теперь одного поля ягодки. Прежняя житуха кончилась, гангрена с ней произошла — и выход один, сам понимаешь. Я улетаю в Сибирь, сегодня же, поживу в деревне у школьного приятеля. Всесоюзного розыска, надеюсь, я не заслужил. Поохочусь месяца два, рыбки половлю. Суд к тому времени кончится, руки и у тебя будут развязаны. Живи покуда здесь. А вернусь — с подробным планом. Ты в нем, думаю, заинтересован не меньше моего, так?
— Что мне остается!
— Вот и славно. А гости незваные нагрянут—скажешь, Истомин на юге, оставил тебя квартиру стеречь. Будет и на нашей улице праздник, потерпи только. Веришь?
— Верю, верю, Герострат несчастный, отвяжись только. Да и что мне, повторяю, остается?
Глава седьмая
После обложных московских дождей, после жгучего холода ветреных октябрьских ночей, после серых, стесненных городским горизонтом утренних зорь и замешанных на мокром снеге—вечерних, после гнусных своих запоев и злобных бессильных слез, после унизительнейшего прощания с Конторой и отвратительных допросов «в качестве свидетеля по делу гр-на Баевского А. Е.»— словом, после всех своих драм и трагедий Марк попал, наконец, в земной рай. Покружив над серебристым, цвета лебяжьего пуха, морем, самолет мягко приземлился на узкую полосу батумского аэродрома, и стюардесса не без лукавой улыбки объявила, что за бортом двадцать четыре градуса тепла.
По-домашнему маленький аэропорт был почти безлюден. Лишь у железной ограды летного поля, в двух шагах от самолета, стояла небольшая терпеливая толпа — отъезжающие. На площади испускал короткие гудки полупустой автобус да выглядывали из своих запыленных машин ленивые таксисты, покуривая и взмахами фуражек приглашая разомлевших северян. Цвет отдаленных гор с расстоянием менялся с зеленого на желто-серый, а там и на синеватый, с белыми пятнами ледников: невидимое море насылало влажный ветерок, насыщенный запахами яблок, винограда, жухлой осенней листвы. Марк снова вздохнул. В фанерном павильончике закусочной предлагали пресный грузинский хлеб, красное вино, сыр, пучки зелени. Впрочем, для русских патриотов имелись вспухшие соленые огурцы да та же водка, по сто граммов которой осушили Марк с Иваном еще в Домодедове.
«Цихидзири! Зеленый мыс! Кобулети! Очамчира!»—со вкусом провозглашал Иван названия окрестных поселков, считывая их с плаката, где жизнерадостно скалилась парочка молодых курортников. Получив в багажном отделении свои маленькие чемоданы и увесистый ящик с лазером, они втащили все хозяйство в автобус и отправились в путь. Двум сотрудникам общества «Знание», которые решили совместить отдых у моря с чтением лекций по современным достижениям оптической физики, торопиться было некуда. Иван, тот даже захватил ласты, маску и подводное ружье, а теперь настаивал, что для начала надо обосноваться близ какой-нибудь турбазы и «непременно отодрать по одной-две золотозубых провинциалочки—юг, осень, романтика, дают безотказно, Марк, по опыту знаю...». Марк все больше отмалчивался, но в конце концов тоже слегка развеселился. Особо его привлек живописанный болтуном Иваном мандариновый сад, виноградник и хурма—плоды, по замыслу Истомина, должны были сами падать в рот постояльцам.
Сошли они в местечке Махинджаури, не доезжая пяти километров до города. Турбаза поблизости, действительно, имелась, а вот с жильем оказалось туговато—в любой день могли грянуть холода, а в хилых летних сарайчиках, для курортников предназначенных, отопления не было. Слоняясь по крутым улочкам поселка, выкликивая от калиток смуглых хозяек, одинаковым движением откидывавших со лба блестящие черные волосы, они забирались все дальше и дальше в гору. На участке хозяев, которые оказались благосклоннее остальных, ни мандаринов, ни винограда не было, зато под окнами дощатого флигелька журчал довольно задорный ручей и сияли-таки меж облетевших веток оранжевые фонарики обещанной хурмы. Оставили сумки, потащились на крошечный вокзал за остальными вещами, на рынке купили кинзы и зеленого лука, в магазине—порядочный кусок овечьего сыра. Купили и теплого хлеба. В окно доносился шум ручья, гоготанье хозяйских гусей, высокие голоса женщин, собиравших чай на соседском участке.
— Вот мы и дома.— Иван принялся накрывать на стол.— Первый скромный успех. За недельку обживемся, а там переедем повыше в горы. Говорят, прелюбопытнейший город Батуми. Ты что, правда, здесь не бывал?
— Сюда американцы почти не приезжают.
— Вот и хорошо. Подзакусим—да и в путь-дорогу. Справки милицейские у тебя? Не потерял? Чудно. К властям сегодня пойдем?
— Лучше завтра.
Солнце и море делали свое дело—Марк вдруг расслабился, отошел, даже тлевшая в нем все последние месяцы злоба на Ивана куда-то пропала.
— Я жутко проголодался, оказывается.— Он вгрызся в твердый, как камень, сыр.—От шашлыка бы не отказался отнюдь.
— Поищем в городе,—кивнул Иван.—А вино в магазине заметил— рубль семь копеек бутылка! Благодать!
— Не для нас с тобой,—брюзгливо заметил Марк,—надо в себя прийти. По крайней мере мне.
Тут Иван извлек из портфеля бутылку и, не слушая Марковых протестов, налил им обоим по стакану. И когда он ее успел купить, чертов сын?
— Сухое вино, учит товарищ Микоян, полезно,—наставительно сказал он.— Это бормотуха, любимое твое пойло, вредна. Слышал, японцы приобрели у нас пять тысяч бочек «Солнцедара»? Наши поразились, но продали. А косорылые, не будь идиоты, загрузили товар на пароход, вышли в открытое море и все винцо немедленно за борт и вылили. Покупали, оказалось, только ради бочек бесплатных—хорошие были бочки, дубовые...
— Не верю!—засмеялся Марк.
— Ну и хрен с тобой, только не сиди тут, как в воду опущенный. Веселись, скотина! Мы же отдыхать приехали! «О, море в Гаграх!»—фальшиво пропел он.
— Отвяжись. И налей мне еще вина, еще чаю. И зелени дай, и хлеба, и сыра отрежь.
Только в ободранной этой комнатенке, под репродукцией «Охотников на привале», за нещадно скрипевшим дубовым столом, только здесь, сидя на кровати с никелированной спинкой и невольно наслаждаясь душистым хлебом и мутноватым вином, Марк вдруг осознал, как нечеловечески устал он за эту осень. Гром, грянувший в начале августа, прокатился по его жизни да и ушел вместе с грозою в иные края, а для него, Марка, потянулись бездомные будни. В письмах, отчаянных и бестолковых, Клэр жаловалась, клялась, уверяла; писала и о том, что с Феликсом не виделась и что «эта страничка перевернута навсегда». О Билле не упоминала вовсе, но, судя по всему, жила с самоотверженным химиком по-прежнему. Уведомила Марка и о том, что «для пробы» подала на визу, но получила отказ. Марк же сообщил ей, не вдаваясь в излишние подробности, что оставил работу и разошелся со Светой, а в ответ получил неожиданный упрек: «Понимаешь ли ты, какую ответственность взвалил этим на плечи мне?» На почту, куда письмо из дымного Нью-Джерси приходило в отдел «до востребования», он являлся ежедневно.
С несостоявшимся тестем, Бог миловал, свидеться ему больше не довелось. За вещами же к Свете он приехал сам, небритый, отчаянно наглый и даже навеселе. Встретили его холодно, затем, однако, накормили ужином, обласкали и оставили ночевать, на что он без видимой неохоты согласился. Ночь изобиловала объятиями, слезами, сумасшедшими обещаниями и планами; наутро, содрогаясь от отвращения к самому себе, он пожелал Свете счастья и унес вещички, посулив вечером позвонить. Иван его терзаниям не сочувствовал вовсе. Уверял он, изумляясь, что на месте приятеля так и прожил бы у Светы до самого отъезда в Батуми, но, вероятнее всего, шутил.
Ключи от квартиры в Теплом Стане у Марка были, только квартира оказалась зачумленная. Продолжали в нее приходить на имя хозяина заказные письма, безвестные доброхоты приглашали его по телефону «посидеть на игле», скорбные барышни, рыдая в трубку, требовали денег на аборты, анонимы назначали свидания в темных местах. Через неделю с чем-то после исчезновения Ивана у подъезда остановилась черная «Волга», и не кто иной, как полковник Горбунов, в сопровождении двух чинов помоложе поднялся на тринадцатый этаж. Звонили они в дверь добрых полчаса и даже угрожали ее взломать, но в конце концов все-таки ретировались. Марк, который все это время просидел, дрожа от ужаса, в ванной комнате, съехал на следующий же день, сняв за бешеные деньги какой-то сарайчик в Малаховке.