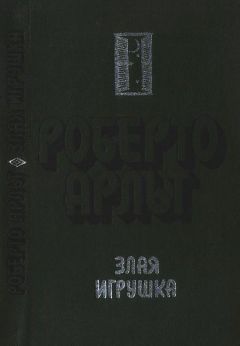Роберто Арльт - Злая игрушка. Колдовская любовь. Рассказы
Так считают и матери этих девушек. Достаточно приспособиться к желаниям мужчины. Сочетание духовной лености и легких чувственных наслаждений — вот что требуется. Срабатывает почти наверняка.
Когда подобные мысли доводили меня до отчаяния, я говорил себе — «Ну и пусть. Мне надо ознакомиться с этим новым способом, при котором чувственная молодая женщина, наставляемая опытной старухой, ловко используя врожденные слабости мужского пола, порабощает бесхарактерного мужчину».
Разве не ступил я уже на этот путь? Разве не начал проникаться этим духом сообщничества нас троих, грязной сделки, во исполнение которой мать, слегка покраснев, изображает улыбку, зная, что дочь и жених за минуту до ее появления в гостиной предавались любовным ласкам на подушках для ног?
Хоть я и презирал сеньору Лоайса, но был крепко связан с ней из-за Ирене. Возможно, мать хорошо представляла себе, чем занимается со мной ее дочь. И признавала, что это необходимо для удовлетворения моих мужских потребностей и для достижения матримониальной цели. Такое ее соучастие размягчало меня, наполняло благодарностью. Думаю, что я без малейшего смущения смог бы обратиться к сеньоре Лоайса за консультацией по самому щекотливому вопросу интимной жизни. Мы с ней противостояли друг другу, будучи связаны силой наших эгоистических интересов и побуждений и тем, что отношения наши с Ирене зашли уже так далеко, что, по мнению матери и дочери, ждать осталось недолго.
Мы были спутниками на сумрачном пути, и я не мог отказаться от наслаждения, которое испытывал, ощущая себя втянутым в их заговор.
А иной раз я их ненавидел. Ну почему у них не хватало ума, чтобы понять мое психическое состояние и использовать его наилучшим образом в своих целях?
Неужели они не замечали, что, несмотря на все сомнения, я страстно желал утратить свою индивидуальность и превратиться в жалкий придаток семейства Лоайса? В самый ничтожный придаток. Это желание было порождено стремительным падением в глубокий колодец моей страсти, от которого у меня закружилась голова.
Когда я пишу эти строки, я вспоминаю о разборе стратегии и тактики победителей и побежденных после битвы. На ум приходят слова маршала Фоша[36]: «Победа всегда достигается за счет последних сил, за счет их остатка. К исходу битвы все устают, как побежденные, так и победители, но с той разницей, что у победителя остается больше упорства, больше моральной силы, чем у побежденного».
А они — подумать только! — оказались настолько глупы, что не заметили моего идиотского желания: ведь я домогался как раз уничтожения последних остатков моих моральных сил, без которых не может быть победы.
Они бездарны! Никакой выдержки! Никакого воображения! Я сам шел к ним в руки, а они, чтобы завоевать меня, прибегли к таким грубым приемам, которые лишь показали их умственное убожество.
В связи с этим вспоминаю один из моих разговоров с матерью Ирене. Сеньора Лоайса, Ирене и я были в гостях у Зулемы. В тот вечер Зулема почему-то не поехала в театр. Я заметил, что она чем-то удручена. После первых приветствий как-то сразу зашел разговор о моем двусмысленном положении в доме сеньоры Лоайсы. Ирене, как всегда в таких случаях, молчала, переводя внимательный взгляд с одного собеседника на другого. Едва речь заходила о серьезных вещах (я заметил это лишь впоследствии), она спешила остаться в стороне. Говорили все остальные: ее мать, Альберто или Зулема.
Сеньора Лоайса взяла быка за рога:
— Если бы вы любили девочку, вы давно бы развелись.
Подобная настойчивость по поводу моего намерения, которое я и сам собирался осуществить, обозлила меня:
— Я же вам не сказал, что не думаю разводиться, — заявил я и тут же, стараясь смягчить резкость моего ответа, пустился в пространные рассуждения о трудностях судебной процедуры, о юридических препонах, о крючкотворстве судейских чиновников, мрачных личностей в крахмальных воротничках, но в грязных гетрах и с трауром под ногтями.
Мать Ирене быстро возразила:
— Послушайте, Зулема только что рассказала мне об одном музыканте из их театра, который выставил на улицу жену с тремя детьми, чтобы соединиться с балериной. Вот как поступают настоящие мужчины, когда они любят. А вы все с оглядкой на эту женщину!
Я не знал, дивиться ли мне откровенной безнравственности этой седовласой женщины или же задать ей вопрос: «Скажите, сеньора, а как бы вам понравилось, если бы я женился на Ирене, а потом выставил бы ее на улицу с тремя детьми, чтобы соединиться с балериной?» Но я сказал только:
— Собственно говоря, я пока еще не развелся только потому, что у меня нет денег. А девочку я боготворю, и вы это знаете.
Ужасная старуха цинично ответила:
— Этим сыт не будешь. Надо вести себя как мужчина.
Тут я подумал: «Чтобы показать себя перед ней мужчиной, мне надо было бы сделать ее дочери ребенка и заявить: „А теперь всучите эту малютку какому-нибудь другому дураку, чтобы он о ней заботился“».
Вдова продолжала:
— …Берите пример с музыканта, Бальдер. С тремя детьми! Вот и не верь после этого в любовь.
Ей вторила Зулема:
— Да, это настоящая любовь. С тремя детьми!
— Ну конечно, — гнула свою линию сеньора Лоайса. — А если все раздумывать да раздумывать…
Я вспомнил ее слова при нашей первой встрече: «Я вовсе не спешу выдать замуж моих дочерей… Им очень хорошо у себя дома».
Потом разговор увял, перешел на другие темы. Незадолго до нашего ухода, Ирене сказала мне:
— Поедем к нам ужинать… Мама сказала, чтобы я тебя пригласила.
В тот вечер, в вагоне поезда — Ирене со мной рядом, сеньора Лоайса напротив, — мы беседовали, сдвинув головы и говоря друг с другом шепотом. Пассажиры, ехавшие в Тигре, проходя по коридору, искоса понимающе и насмешливо поглядывали на нас. О чем мы говорили? Ни о чем и о многом.
Мы делились друг с другом мыслями на благо укрепления нашего сообщничества. Каждый из нас — дочь, мать, жених, — без сомнения, понимал ненормальность того положения, в котором мы оказались. В душе мы отвергали то, с чем на самом деле соглашались, и последовательное нарушение законов совести превращало нашу игру в мрачную авантюру. Самые противоречивые чувства совмещались в наших душах, точно круги от брошенного в воду камня, которые по мере расхождения сглаживаются, переходят друг в друга.
Вот чем, стало быть, объясняется моя привязанность к сеньоре Лоайсе: я восхищался ее беспардонностью, точно какой-то добродетелью. Меня повергли в изумление ее решительность, ее медоточивая твердость в отношениях со мной. В свое оправдание она говорила:
— Покойный муж был человеком энергичным.
Но она никогда не утверждала, что подполковник одобрил бы сложившиеся между нами отношения. Впрочем, это не мешало ей уважать меня, несмотря на отдельные споры, подобные тому, который возник, когда мы были в гостях у Зулемы. Ко мне она питала своекорыстную привязанность, какую испытывают все матери к слабым и сластолюбивым самцам, так как с удовлетворением чувствуют, что те будут порабощены, намертво пришиты к юбкам их дочерей и что ради этих дочерей, которых они любят, обожают, они будут работать как проклятые, стараясь окружить их всеми удобствами, составляющими предмет мечтаний всякой развращенной натуры.
В мозгу моем возникали картины: мать, дочь и мужчина. Мать дружески беседует с беременной дочерью, они прекрасно ладят между собой, потому что они были сообщницами, и дочь никогда об этом не забывает. Мать помогла ей подцепить этого несчастного, у которого теперь в жизни одна-единственная цель: удовлетворять все ее желания, какими бы они ни были.
И вот, по мере того как я нарочно утрачивал свое собственное «я», позволяя колдовской силе пропитать все клеточки моего организма, во мне росло и росло темное, необоримое сладострастие.
Я был на краю гибели.
На мать Ирене я смотрел с такой же смиренной благодарностью, с какой пациент смотрит на безжалостного хирурга, который убедил его согласиться на болезненную операцию. Зато, когда все этапы этой операции будут пройдены, ему будет необыкновенно хорошо.
Но, несмотря на все это, я говорил себе, будто сторонний наблюдатель разыгравшейся драмы: «Какой удивительный эгоизм у этой ужасной старухи! Она любит свою дочь, и ей наплевать на мораль, на самые обычные запреты. При первом нашем свидании она притворялась, будто ее беспокоит, что скажут люди, а теперь, оказывается, ей нипочем и мнение окружающих. Она хочет выдать Ирене замуж и ради этого пойдет на все, за исключением разве что уголовно наказуемых действий».
Она вела себя совсем не так; как должна была бы вести, если бы действительно руководствовалась теми принципами, о которых заявляла. Среди всеобщего лицемерия, свойственного ее кругу, она чувствовала себя как рыба в воде, и это наводило меня на мысль о том, что дочь такой ловкой притворщицы может оказаться еще почище матери; когда меня одолевали подобные сомнения, я смотрел на Ирене с холодной жестокостью.