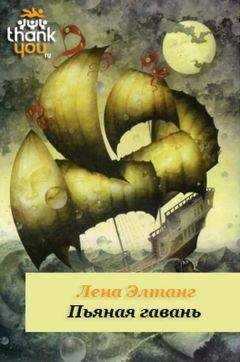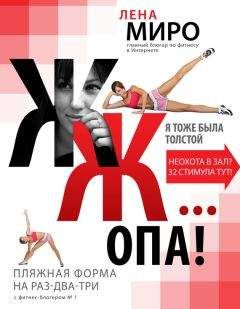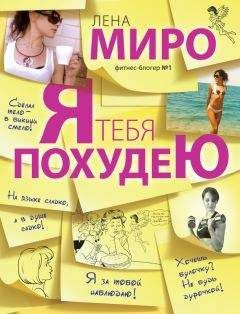Лена Элтанг - Каменные клены
Осенью Саша читала диковинную книгу француза-египтолога — понимать ее было не намного легче, чем рисунчатое письмо, но Саша обложилась словарями и дочитала до половины. Больше всего ей понравилось, что умершие египтяне не просто покорялись решению богов, но пытались торговаться с ними и всячески уговаривали определить им лучшую участь.
В этом была непривычная для христианства уверенность в себе и прелестная дотошность — Саша решила, что будет делать то же самое, только еще при жизни.
Я пришел к тебе, господин мой, — говорил на суде Осириса один из смышленых покойников. — Я не делал того, что для богов мерзость. Я не убивал, не уменьшал хлебов в храмах, не убавлял пищи богов, не нарушал меры полей, не увеличивал весовых гирь, не подделывал стрелки весов. Я чист, я чист, я чист, я чист.
Когда Саша смотрела на Хедду глазами Осириса, она точно знала, как с ней следует поступить после того, как боги взвесят на судейских весах ее сырое, хлюпающее сердце зеленной торговки. Отдать на съедение льву с головой крокодила, вот что следует сделать.
1983Есть трава Иова, ростом мала, что иголка бела, а иная — черна, цвет на ней, что пыль синяя. И ту траву кто найдет — и он заблудитса, а только будет тот без ума, а только в мельницу кинешь, то одноконно всю расторшит.
…Вот, скажем, на этой фотографии все, как было: упавшие на щиколотки гольфы, покрытые розовой сыпью щеки, эта болезнь называлась следы от пощечин, ужасная гадость, она помнила это лето, и сыпь, и круглый фонтан с ящерицей, застывшей на задних лапах, такие раньше жили в огне, говорила мама, а теперь прозябают в вересковых болотах, что это — Тенби или Аберстуит?
Брайтон, Западный причал, вот это что. Позади фонтана светятся маковки Королевского павильона, а дальше, за низким парапетом, темнеет море — черное, настоящее, полное ледяной высокомерной рыбы.
Не то что Ирландское: молочное, отползающее от берега на полторы мили, оставляя на виду заплатанные днища лодок и грязную донную траву, обнажающее свои тайны со смешливым бесстыдством, которому Саша всегда завидовала, — им обладали море и Синтия Бохан, способная раскрыть любой, самый жгучий секрет, жмурясь от удовольствия.
Тогда, в Брайтоне, ее в первый раз взяли на утренник с пьесой Метерлинка, дети в театре сидели с открытыми ртами, забыв даже, что надо ерзать и шуршать конфетами, а Саша снисходительно улыбалась, победно оглядывалась — вот! я же говорила! душа Хлеба! душа Сахара!
Правда, в театре души вещей были какими-то жалкими, надутыми, видно было, что взрослые помнили что-то смутно, но выразить не умели, в отчаянии они лепили вещи из папье-маше и озвучивали нарочито тонкими голосами. Души этих вещей как будто оцепенели, они на глазах покрывались смолой, как покорные насекомые.
По дороге домой Саша пыталась объяснить это маме и отцу, но мама качала головой, курила и смотрела в окно, тогда у них еще была другая машина, со стеганым сиденьем, в мелких дырочках от маминых сигарет. В те дни мама курила так много и торопливо, что Саша повсюду завела для нее пепельницы — из склеенных яичным белком чашек, которые уже не держали воду.
В чашках жила обиженная душа бабушкиного сервиза.
Дневник Луэллина
я помню, что дождь в тот вечер хлестал так, будто хотел смыть меня в ирландский залив, но не помню, как я добрался до каменных кленов и что я там кричал, стоя перед запертыми воротами с табличкой WE ARE BOOKED UP, такой же поддельной, как сама хозяйка пансиона
судя по тому, как опухли мои кулаки и охрипло горло, я стучал довольно долго и кричал слишком громко, стараясь перекричать монотонный уэльский ливень
думаю, я кричал что-то вроде: выходи, александра — я даром покажу тебе твой травник! тебе не придется даже ложиться на грязный кухонный стол!
выходи, ламия! кричал я, наверное, правильно тебя окрестили злобные дети, кроме них, никто в этом городе тобой не занят, никто твоего имени не помнит, хоть тысячу тетрадок испиши заклинаниями!
а может быть, я кричал: покажи мне свою сестру, которую ты убила и закопала — потому что тебе легче убить, чем признаться в том, что от тебя сбежали куда глаза глядят, отравившись твоим полынным молчанием
даже не помню, был ли я хоть раз в жизни пьян до такого упоения английским языком
***если бы я мог говорить с ней, то сказал бы: не бойтесь, милая, перестаньте же бояться
знаю, знаю, театр теней у каждого свой, мои тени проходят сквозь ваши — как в старом рассказе брэдбери марсиане проходят сквозь жителей земли, им никогда не встретиться, как фигурантам двух музыкальных шкатулок, как бегемоту и левиафану, да чего там — как вольтеру и русской императрице
наши тени стучатся в окно безлунной ночью, прижимая расплющенные лица к стеклу, они пугают вас, взрываясь переспелой вишневой настойкой, засыпая кладовку мелким стеклом и кровавой мякотью, они взлетают с нешуточным шорохом из-под стрехи, они мужественны, как лемминги, и женственны, как электрические скаты, у них бывают кожистые крылья, овечий поворот головы, совиные когти, да что пожелаете, то и будет
что с того, что я сам выкормил их из горсти? я у них не кто иной, как пуппенмейстер, [141] а вы у своих — заложница
страх и вина — вот два хриплых гудящих меха вашей шкатулки, не знаю, что вы там натворили, вернее, не желаю догадываться, но, что бы там ни было, вы, как и я, годами слушаете зыбкое бренчание и вглядываетесь в облупленное фаянсовое личико балерины: ах, мой милый августин! это все, что она может сказать, вертясь и наклоняясь над выцветшей бархатной сценой, а вы ведь не это хотите услышать, вы хотите услышать — я тебя прощаю, все хорошо, забудь
так гесиодовы пеласги слушали шум дубовой кроны, или этруски — свою эолову арфу, да куда там, в висках у вас бьется обезумевший августин, все заглушающий, как тяжелое биение крови, оглохший, будто молотобоец
***а может быть, я кричал: выходи, так и быть, я отдам тебе твой дневничок, насочиняешь себе еще картонных людей, раз уж никто живой не желает иметь с тобой дела!
ох, не знаю, что я кричал, но дождь, наконец, перестал, ночное небо очистилось и почти сразу открылись ворота каменных кленов — сначала мне показалось, что они распахнулись сами, потому что я никого не увидел, но тут вспыхнула автоматическая лампа, и в ее бледном мигающем свете я заметил девочку, стоящую посреди садовой дорожки
она стояла там с таким видом, будто жила в этом доме с самого рождения, и куталась в гостевую куртку с капюшоном, куртка закрывала ее с ног до головы, я увидел только светлые волосы и губы, а потом еще и маленькую руку, которую она вытянула из широкого брезентового рукава
я присел на корточки и взял ее ладонь, здравствуй, сказал я, ты здесь живешь? нет, ответила девочка, я здесь в гостях, сегодня меня украли, а потом я нашлась, я — фенья, а ты кто? она протянула мне тетрадный листок, сложенный вчетверо: тетя александра велела тебе передать, она знает буквы, а разговаривать не умеет
девочка повернулась и медленно пошла по садовой дорожке к дому, а я развернул записку и поднес ее к голубому аварийному фонарю
пожалуйста, не приезжайте больше
то, что украли, можете оставить себе
***почему они приходят вдвоем? я кругом виноват и поэтому не могу простить? я не могу простить и оттого виноват? я окружен виной и досадой, как возница кругломордыми львами на каппадокийской печати, безумие подошло так близко, оно как рыба плещется под мостом, где все заполнили теллной водой неустройство и сумятица, безумие уютно, как календарь примет и поверий — в нем галки и ласточки падают в трубу, смертельная петрушка цветет перед домом, гнев угасает, привязанность еле тлеет, а стрекало и силки становятся цветком и трезубцем в руках улыбающегося ганеши
почему они приходят вдвоем?
сначала ты боишься, потом надираешься с самого утра в неубранном небесном саду, потом тихо пятишься с ума, стараясь не скрипнуть ни одной половицей, потом тебя начинают бояться другие, и становится легче, а потом ты переходишь мост — уже догадываясь, что там, на другом берегу
господи, не проще ли сесть на паром
Дневник Саши Сонли. 2008
…Тот, кто вина выпивал, с благотворным
Слитого соком, был весел весь день и не мог бы заплакать.
Если б и мать и отца неожиданной смертью утратил,
Если б нечаянно брата лишился иль малого сына.
Двадцать шестое июля. Вернувшись из Торни, я застала горничную в слезах, а кухню — неубранной после завтрака.
Нет, не так. Сначала я увидела гору надкушенных тостов и яичной скорлупы, оставленную постояльцами, и четыре чашки с кофейной гущей. На спинке дубовой скамьи висел грубо связанный розовый свитер Эвертон, а самой Эвертон не было.