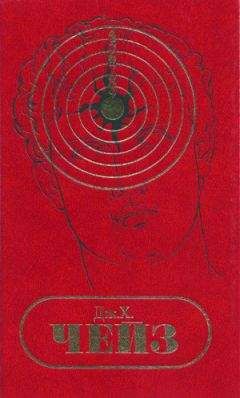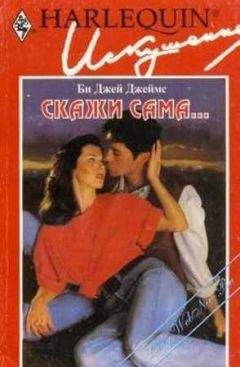Джеймс Мик - Декрет о народной любви
Самарин удивился, что у них не было с собою оружия.
— Так вот же пистолет! — воскликнул ребенок, не дав машинисту и рта раскрыть, указывая на маузер в раскрытой кобуре, висевшей над головой машиниста.
— Молодец, Алеша, — похвалил Самарин. — Я и не заметил. А вот где, интересно, свисток?
— А вот, — показал машинист. Нагнулся, поднимая ребенка, и предъявил мальчику длинную, потускневшую от высохшей смазки цепь, свисавшую с паровозной крыши.
— А можно мне дернуть? — попросил мальчик.
— Что ж, дерни, — разрешил тот.
Детская рука ухватила цепь, и мальчик потянул за звенья. Ничего не произошло, и тогда Алеша дернул сильнее, пока не почувствовал, как раскрывается в машинной утробе клапан и как дрожит в руке цепь от переданной мощи. Локомотив испустил долгое, почти лошадиное ржание. И мальчик ощутил силу, точно от паровоза пронесся над тайгой его собственный крик одиночества и тоски.
И ребенку открылось: когда приходит нежданно беда, то даже мгновение спустя не уяснишь, в каком порядке всё случилось — какими бы яркими ни были осколки воспоминаний. Звук гудка таил в себе другой — пронзительный вскрик. Не просто звук, а удар по барабанным перепонкам, хлопок, взрыв! Еще Алеша увидел, как чья-то рука выхватила маузер из кобуры. Должно быть, рука Кирилла Ивановича, а выстрел послышался после.
Когда в чешского солдата выстрелили из пистолета, ему оставалось лишь повалиться наземь, точно набитому и раскрывшемуся чемодану, и только потом увидел ребенок маузер в руке Самарина, направленный на кочегара. Впрочем, всё это смешалось в голове у Алеши и мельтешило безумной пляской перед его внутренним взором: прицеленный пистолет, мертвый легионер, смертельный выстрел, рука Кирилла Ивановича, стремительно ухватившая маузер, гудок…
Несколько последующих моментов слились воедино, и Алеше оставалось лишь глядеть ярмарочный балаган уродливых потрясений, отплясывающих в детском мозгу, хотя в то же самое время ребенок замечал и другие события: Кирилл Иванович приказывает машинисту лечь, тот опускается на пол, Кирилл Иванович велит кочегару подбросить в топку угля, если дорога жизнь; приказывает увеличить давление…
Кирилл Иванович не кричал. Глаза его скользили то мимо машиниста с кочегаром, то по двору и снова — обратно, быстро и резко, даже как-то угловато, точно водомерки по глади пруда. Велел Алеше спрыгивать с паровоза. Мальчик прижался спиною к тендеру, вцепился в металлическую решетку.
— Прыгай, говорю! — крикнул Самарин. — Вот непослушный! Больше глядеть за тобой не стану.
Ребенок мотнул головой. Боялся и знал, что именно к Самарину стягиваются нити ужасного, неясного горя, и хотелось оказаться рядом, в самой сердцевине, где горе, а не стоять поодаль, не глядеть, как надвигается или стороной проходит беда.
— Вот черт! — выругался Кирилл Иванович. — Поддай жару! — и пнул кочегара. В топке ревело.
— Давление что надо! — крикнул тот. — Пошли!
Кочегар с машинистом побледнели от испуга. Страх проступал молчанием, сдержанными жестами. Машинист снял состав с тормозов и повернул рычаг. Пар яростно ударился о железо, паровоз тронулся.
— Прыгай! — велел Самарин и, чтобы ухватить ребенка, потянулся за спину, не глядя.
Мальчик извивался, спасаясь от цепких пальцев. Кочегар с совковой лопаты подкидывал в пламя уголь, свет за дверцей горел белым, ярким, точно летнее солнце. Ревело рекой, а старые смазанные детали огромного двигателя шевелились, визжали, постукивали, пока клапаны всасывали и выплевывали пар.
— Куда едем? — спросил машинист.
— А никуда, — ответил Кирилл Иванович и двумя мощными пинками — раз — точно высвободил пружину! Еще — и прочь! — вытолкнул человека из кабины. Чех сгинул, и теперь на рычаге покоилась рука Самарина.
Первым побуждением ребенка было подбежать к дверному проему — поглядеть, что сталось с машинистом. Если вдруг свалится, то высоко, да и ехали, кажется, уже побыстрее. Но тут же Алеша сильнее ухватился за поручни: понимал, что, дай Кириллу Ивановичу шанс, — тоже сбросит с паровоза. А не страшно, если только посильнее к стенке, в углу зажаться.
Самарин наблюдал за датчиками, удерживая кочегара на мушке маузера, через каждые несколько секунд то и дело поглядывая в окно. Притаившемуся ребенку было видно, как мимо на мгновение пролетит то береза, то кедр в четком осеннем свете.
Уже проехали за Язык. На поезде мальчик путешествовал чуть ли не год тому назад, но такой поездки еще никогда не было. В животе воронкою в пустоту распахнулось беспокойство оттого, что, кажется, уехали уже слишком далеко от мамы, но ветер из распахнутого окошка, порывы пара и высокая спина умного, проворного взрослого, сидевшего впереди, обещали приют в бесконечном побеге к далекой цели — непонятной, невидимой, но хорошей и занимательной. Прежде Алеше было известно только одно место, куда вели все дороги: дом, кров, мать… А теперь — скорость, путь, старший…
Самарин наскоро оглянулся на Алешу:
— Черт! Я же сказал тебе прыгать! Не прыгнешь — так я сам тебя с первого же моста сброшу!
— А вы чешского солдата убили! — в полном восхищении произнес ребенок.
— Чтобы мертвых считать, мне мальчишка не нужен. — И кочегару: — Поддай, гнида!
— Так кто же вы такой? — поразился Алеша.
— Разрушение.
— А что разрушаете?
— Всё, что только встанет на пути к счастью тех, кто родится после моей смерти.
— А как же мама?
— Ни она для меня ничего не значит, Алеша, ни ты. Весь мир разлетелся на куски, так что и не соберешь уже!
В сердце ребенка закрался страх.
— Вы маму обидели?
Обернувшись, Самарин неотрывно поглядел на мальчика. Разъяренный взор страшил сильнее, чем любое наказание.
— Нет, — ответил Кирилл Иванович.
В кабине раздался странный звук, точно переломился надвое тонкий стальной пруток. И далее по всему двигателю послышались тихие щелчки, точно пошли поломки. Внезапно кочегар, подкидывая уголь в топку, повалился вперед, руки скользнули по древку лопаты до самого пламени. Рукавицы почернели, задымились, и мальчик увидел, как бок у взрослого, под самыми ребрами, потемнел от того, что капало из прорехи в мундире. Но не только ткань разорвалась прорехой. Невероятно, однако же казалось, будто от самого кочегара оторвался лоскут, и сочилась из черного входа под ребром кровь, вытекала жизнь.
Самарин оттолкнул кочегара от топки, швырнул в коридор, напротив мальчика.
— Пулеметы, — заметил Кирилл Иванович, вновь взявшись за рычаги. — Не вставай.
Ребенок притаился на полу кабины. Глянул на кочегара. Тот вроде бы уже посерел, глаза закрыты. Поразительно, с какой легкостью взрослого лишили жизни. Слышно было, как стрекотали пулеметы. Стреляли издалека, совсем не похоже на то, как бился свинец о сталь, когда обстреливали паровоз. Как странно, что кусочком металла можно оборвать жизнь, длившуюся несколько десятков лет, остановить разговоры, шевеление…
Глядя на пути прямо перед собой, Кирилл Иванович крикнул что-то — Алеша не разобрал — и подал гудок, то ли дважды, то ли трижды. Паровоз врезался в преграду. Каждый болт и каждый кусок обшивки содрогнулся, но машина продолжила путь. Выстрелы зазвучали громче. Вблизи раздался взрыв, словно вспышка пронеслась над головой, и в голове сделалось пусто и легко, а в ушах зашумело.
Паровоз с громовым рокотом несся дальше. Самарин принялся подкидывать в топку дрова. Выстрелы не стихали.
В кабину ударил осколок, что-то задело Алешу за плечо. Вспыхнула неимоверная, безумная боль, и стало страшно. Частью рассудка ребенок понимал, что ранен отлетевшим свинцом, и донимало любопытство: станет ли и он таким же недвижным и бледным, как кочегар, и что случится с той его частью, которая не замрет? Просвет, отделявший грудь от одежды, заполнялся теплым — должно быть, кровью.
— Кирилл Иванович, — позвал мальчик и поразился тому, как слабо и тонко прозвучал голос. Самарин не услышит. От произнесения слов всё тельце точно горело болью, но теперь, от страха и злости, удалось выкрикнуть: — Кирилл Иванович!
Вышло громко, ребенок плакал и, несмотря на боль, почувствовал некую долю стыда, и показался себе маленьким, как только увидел, как оборачивается высокий старший, глядя снизу вверх. Было видно, что Кирилл Иванович сердится. Прикрыл глаза рукой, саданул кулаком по панели с датчиками и повалился на колени, согнув шею так, что едва не задел лбом колен. Потом поднялся, повернулся к ребенку, позвал по имени. Мальчик старался ответить, но, как не шевелил губами, не смог издать ни звука. Глаза закрывались сами собою. Кирилл Иванович всё звал его, а пушки всё палили, и послышались новые взрывы снарядов.
Мальчик услышал визг тормозов, почувствовал, как замедлил ход и остановился паровоз и как, точно после длинного перерыва, забарабанили пули по паровозу и махина тронулась обратно, в город.