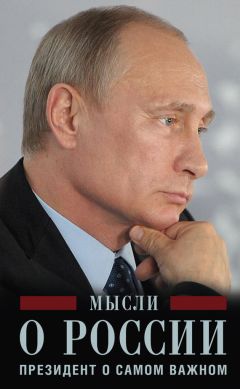Валерия Новодворская - Поэты и цари
Родители Сольвейг были благочестивы, поэт – и нечестив, и женат. Им запретили видеться. Но Катенька была под стать Бальмонту: свободная, без комплексов, увлекалась теософией, так что еще до развода переехала к поэту. В 1896 году завершился бракоразводный процесс, и решение было самым иезуитским: жене дозволялось вступить во второй брак, а мужу – запрещалось навсегда. Обвенчались наши мятежники по подложным документам, а родители жены были рады и тому, что Бальмонт вообще решил венчаться. Они боялись «преступного сожительства». В приданом отказали, но деньги Кате давали (ее карманные расходы как раз превышали годичные доходы Бальмонта). Но поэт был влюбчив и «черноглазой лани» охотно изменял. Однако Катя была умна и смотрела сквозь пальцы на романы мужа. Он даже пленил жену Брюсова, своего друга, Иоанну Матвеевну. Потом была Е.К. Цветковская. Но это что! Он ведь влюбился в поэтессу Мирру Лохвицкую, писавшую эротические стихи в духе «Песни песней». Эту связь он афишировал. Кстати, Мирра была родной сестрой Тэффи. Тесен мир!
А потом он стал еще теснее для Бальмонта, Тэффи, Бунина, Гиппиус, Мережковского и всей их компании поэтов Серебряного века, которым удалось выжить в Европе. Русская литературная диаспора – это был самый тесный кружок и самый последний из всех. Почти кухня. И в конце пути – Сент-Женевьев-де-Буа. Но это все-таки не Колыма, не вечная мерзлота, в которую положили Мандельштама с биркой на голой тощей ноге… И это не петля в Елабуге, и не очередь с передачами, в которой больше десяти лет стояла Ахматова…
Когда наступит Февраль, Бальмонт будет в восторге, как многие поэты. Когда придет Октябрь, ему станет категорически противно. Нет, он даже пытался работать у Горького в его шарашке «Всемирная литература», но молчать он не умел. И опять был пущен в ход поэтический кинжал. Он заявил публично, что поэты – не планеты, чтобы вращаться вокруг революционных солнц. Поэты – кометы, они идут мимо планет и солнц, и никто не составляет им маршрута. Еще несколько лет, и он заплатил бы за это жизнью. Но 1920 год – это еще полный бедлам, нет еды и топлива, и большевикам не до поэтов. Юрис Балтрушайтис похлопотал, и Бальмонту позволили уехать в июне 1920-го в Эстонию. Потом он перебрался в Германию, а оттуда – в нашу российскую Мекку – во Францию.
Он проживет долго, до 1942 года, будет читать в 30-е лекции в Польше, Болгарии, Литве. Он будет беден, но на уровне Парижа, а не карточной России. Он будет тосковать, но молча, без жалоб, без банальностей о березках и снегах. Ему и в голову не придет возвращаться. Он будет писать и переводить. Умрет он под Парижем, во время оккупации, в маленьком приюте для русских литераторов. Все-таки 77 лет. Декаденты – люди живучие, потому что их не могут убить штампы «о служении народу», «раньше думай о Родине, а потом – о себе», о пользе обществу. Плевать декадентам на эти штампы. И даже карту СССР Бальмонт себе не купил, чтобы флажками отмечать успехи Красной Армии. Он просто написал правду, правду о поэтах и кометах: «Есть люди, присужденные к скитаньям, где б ни был я, – я всем чужой, всегда. Я предан переменчивым мечтаньям, подвижным, как текучая вода. Передо мной мелькают города, деревни, села, с их глухим страданьем. Но никогда, о, сердце, никогда с твоим я не встречался ожиданьем. Разлука! След другого корабля! Порыв волны – к другой волне, несхожей. Да, я бродяга, топчущий поля. Уставши повторять одно и то же, я падаю на землю. Плачу. Боже! Никто меня не любит, как земля!»
Счастливая, долгая, благополучная жизнь. Может быть, Бальмонт первым понял, что Земля людей и Земля поэтов крутятся в разных галактиках.
СТИХИ КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА
Подборка Валерии Новодворской
КОСТРЫДа, и жгучие костры
Это только сон игры.
Мы играем в палачей.
Чей же проигрыш? Ничей.
Мы меняемся всегда.
Нынче «нет», а завтра «да».
Нынче я, а завтра ты.
Все во имя красоты.
Каждый звук – условный крик.
Есть у каждого двойник.
Каждый там глядит как дух,
Здесь – телесно грезит вслух.
И пока мы здесь дрожим,
Мир всемирный нерушим.
Но в желаньи глянуть вниз
Все верховные сошлись.
Каждый любит, тень любя,
Видеть в зеркале себя.
И сплетенье всех в одно
Глубиной повторено.
Но, во имя глубины,
Мы страдаем, видя сны.
Все мы здесь, наоборот,
Повторяем небосвод.
Свет оттуда – здесь как тень,
День – как ночь, и ночь – как день.
Вечный творческий восторг
Этот мир, как крик, исторг.
Мир страданьем освящен.
Жги меня – и будь сожжен.
Нынче я, а завтра ты,
Все во имя красоты.
1901
СКОРПИОНСОНЕТ
Я окружен огнем кольцеобразным,
Он близится, я к смерти присужден, —
За то, что я родился безобразным,
За то, что я зловещий скорпион.
Мои враги глядят со всех сторон,
Кошмаром роковым и неотвязным, —
Нет выхода, я смертью окружен,
Я пламенем стеснен многообразным.
Но вот, хоть все ужасней для меня
Дыханья неотступного огня,
Одним порывом полон я, безбольным.
Я гибну. Пусть. Я вызов шлю судьбе.
Я смерть свою нашел в самом себе.
Я гибну скорпионом – гордым, вольным.
1899
В ГЛУХИЕДНИПРЕДАНИЕ
В глухие дни Бориса Годунова,
Во мгле российской пасмурной страны,
Толпы людей скиталися без крова,
И по ночам всходило две луны.
Два солнца по утрам светило с неба,
С свирепостью на дольный мир смотря.
И вопль протяжный: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!»
Из тьмы лесов стремился на царя.
На улицах иссохшие скелеты
Щипали жадно чахлую траву,
Как скот, – озверены и неодеты,
И сны осуществлялись наяву.
Гроба, отяжелевшие от гнили,
Живым давали смрадный адский хлеб,
Во рту у мертвых сено находили,
И каждый дом был сумрачный вертеп.
От бурь и вихрей башни низвергались,
И небеса, таясь меж туч тройных,
Внезапно красным светом озарялись,
Являя битву воинств неземных.
Невиданные птицы прилетали,
Орлы парили с криком над Москвой,
На перекрестках, молча, старцы ждали,
Качая поседевшей головой.
Среди людей блуждали смерть и злоба,
Узрев комету, дрогнула земля.
И в эти дни Димитрий встал из гроба,
В Отрепьева свой дух переселя.
1899
СМЕРТИЮ – СМЕРТЬProcul recedant somnia
Et noctium pbantasmata…
S. AmbrosiusПрочь да отступят видения
И привиденья ночей!
Св. АмвросийСмертию – смерть
I bad a dream…
Lord ByronЯ видел сон, не все в нем было сном,
Воскликнул Байрон в черное мгновенье.
Зажженный тем же сумрачным огнем,
Я расскажу, по силе разуменья,
Свой сон, – он тоже не был только сном.
И вас прося о милости вниманья,
Незримые союзники мои,
Лишь вам я отдаю завоеванье,
Исполненное мудростью Змеи.
Но слушайте мое повествованье.
Мне грезилась безмерная страна,
Которая была когда-то Раем;
Она судьбой нам всем была дана,
Мы все ее, хотя отчасти, знаем,
Но та страна проклятью предана.
Ее концы, незримые вначале,
Как стены обозначилися мне,
И видел я, как, полные печали,
Дрожанья звезд в небесной вышине,
Свой смысл поняв, навеки отзвучали.
И новое предстало предо мной.
Небесный свод, как потолок, стал низким;
Украшенной игрушечной Луной
Он сделался до отвращенья близким,
И точно очертился круг земной.
Над этой ямой, вогнутой и грязной,
Те сонмы звезд, что я всегда любил,
Дымилися, в игре однообразной,
Как огоньки, что бродят меж могил,
Как хлопья пакли, массой безобразной.
На самой отдаленной полосе,
Что не была достаточно далекой,
Толпились дети, юноши – и все
Толклись на месте в горести глубокой,
Томилися, как белка в колесе.
Но мир Земли и сочетаний звездных,
С роскошеством дымящихся огней,
Достойным балаганов затрапезных,
Все делался угрюмей и тесней,
Бросая тень от стен до стен железных.
Стеснилося дыхание у всех,
Но многие еще просвета ждали
И, стоя в склепе дедовских утех,
Друг друга в чадном дыме не видали,
И с уст иных срывался дикий смех.
Но, наконец, всем в Мире стало ясно,
Что замкнут Мир, что он известен весь,
Что как желать не быть собой – напрасно,
Так наше Там – всегда и всюду Здесь,
И Небо над самим собой не властно.
Я слышал вопли: «Кто поможет? Кто?»
Но кто же мог быть сильным между нами!
Повторный крик звучал: «Не то! Не то!»
Ничто смеялось, сжавшись, за стенами, —
Все сморщенное страшное Ничто!
И вот уж стены сдвинулись так тесно,
Что груда этих стиснутых рабов,
В чудовище одно слилась чудесно,
С безумным сонмом ликов и голов,
Одно в своем различьи повсеместно.
Измучен в подневольной тесноте,
С чудовищной Змеею липко скован,
Дрожа от омерзенья к духоте,
Я чувствовал, что ум мой заколдован,
Что нет конца уродливой мечте.
Вдруг, в ужасе, незнаемом дотоле,
Я превратился в главный лик Змеи,
И Мир – был мой, я – у себя в неволе.
О, слушайте, союзники мои,
Что сделал я в невыразимой боли!
Все было серно-иссиня-желто.
Я развернул мерцающие звенья,
И, Мир порвав, сам вспыхнул, – но за то,
Горя и задыхаясь от мученья,
Я умертвил ужасное Ничто.
Как сонный мрак пред властию рассвета,
Как облако пред чарою ветров,
Вселенная, бессмертием одета,
Раздвинулась до самых берегов,
И смыла их – и дальше – в море Света.
Вновь манит Мир безвестной глубиной,
Нет больше стен, нет сказки жалко-скудной,
И я не Змей, уродливо-больной,
Я – Люцифер небесно-изумрудный,
В Безбрежности, освобожденной мной.
1899