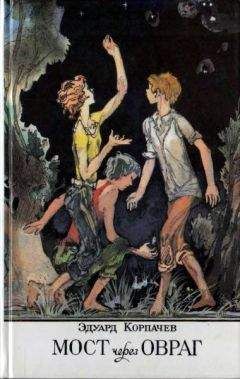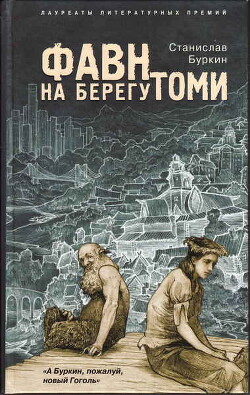До свидания, Сима - Буркин Станислав Юльевич
Красный парадный асфальт и мрачноватые петербургские улицы со слепленными трех-четырехэтажными домами с лепными парадными. В Кракове такие дома называют «каменицами», а современные многоквартирные здания — «блоками». В России их, кажется, особо не разделяют. Там есть своя особая градация жилых построек, связанная с политическими режимами. У нас бы сказали, что дома в Версале «дореволюционной» постройки.
В большой квартире у нее был бардак. По ковру разбросаны мягкие игрушки, носочки и крупные разноцветные детали конструктора. Мужа не было, а она ждала няню с минуты на минуту, чтобы оставить на нее детей и поехать на работу. Открыв мне, она продолжала говорить по телефону с ребенком на руках, болтать с кем-то, она веселыми гримасами позвала меня за собой на кухню, где что-то должна была помешивать на плите.
Мерседес худая высокая женщина, с красивыми, но немного суховатыми чертами. Длинные черные волосы, крупные белые зубы, смуглое лицо, узкий правильный нос, щеки немного впалые, губы темные, большие, в складочку. Брови двумя гордыми тонкими дужками. Сначала я подумал, что постарела, но потом присмотрелся и решил, что даже заматерела. Стала прямо настоящая испанская женщина. Ей было около тридцати двух. Она стала очень похожа на свою мать. А мне Мигуэла еще в детстве чуть ли не больше дочек нравилась, просто уж больно по возрасту не подходила и потому в расчет не шла.
Мерседес меня привлекала, но я чувствовал себя не в своей тарелке и прикоснуться к ней не решался. Или предлога не мог найти, или дети меня стесняли — мальчик пяти лет и трехлетняя девочка. Когда снизу позвонила няня, она открыла ей подъездную дверь нажатием кнопки, вернулась в комнату, где я сидел, открыла шкаф и прямо при мне сбросила кимоно и начала выбирать платье.
Я увидел белые трусики и сразу понял, что у нас все по-старому, — стоит только протянуть руку. Икры у нее были длинные, лодыжки худые с торчащими косточками, ступни большие и костлявые, но очень женственные и в чем-то библейские — Агарь — наложница Авраамова, да что там — Царица Савская! Все закипело во мне — видно, мне пришлась по вкусу ее новая ипостась. Не успела она надеть платье, как я резко встал с кресла, подошел, одной рукой обнял груди, а другую положил на живот. Я держал ее спиной к себе, она застыла и слегка повернула ко мне голову.
— Катрин сейчас поднимется, — сказала она новым низким голосом.
— Мерседес!
— Здесь мы не можем. Поехали со мной на работу. Я как раз тебя побрею и подстригу как следует.
Я поцеловал ее в шею и в новые губы и застегнул между лопатками приводившее меня в исступление платьице.
Перед самой моей женитьбой у нас был с ней короткий полушутливый роман, когда мы вместе ездили в Италию. Поэтому я знал, что и теперь все будет по-прежнему, но не ожидал, что все начнется так мгновенно.
Когда зашла полная кореянка и занялась детьми, мы спустились вниз и сели в ее «жука». Немного пропетляв по пустынным версальским улицам, она свернула в парк, и мы зашуршали вниз по кирпичной крошке розовой аллеи и остановились возле пруда под свисающими до земли кронами зеленой ивовой шторы.
2
В Париже я кое-как через знакомых снял просторную студию за шестьсот евро в мансарде на Вожирар, бывшую мастерскую художника с дощатыми некрашеными полами, маратовской ванной за клеенчатой занавеской и верхушкой Эйфелевой башни над соседней крышей, и тихо прожил там около полугода. Мне нравилось, что под моим сучковатым полом кто-то дни напролет репетировал дуэтом на пианино и скрипке. Занимался я преимущественно французским языком, а также Мерседес (конечно, не только языком) и чтением романской классики. Подал документы в Сорбонну и собирался потратить остаток времени до своего тридцатилетия на изучение музейного реставрационного дела. Чудесное занятие. И как я раньше не догадался?
Из своего окна я видел белую кошку, убившую себя в полдень. Меня поразил ее взгляд и легкость целеустремленной походки. Если бы я не видел эту походку, мне было бы ее жаль. Но я был даже по-своему горд за нее. Ведь, наверное, у нее были на то свои внутренние причины. Об этом говорили ее взгляд и целеустремленность походки.
— Как у тебя здесь хорошо, таинственно, какой смешной старый диван, — сказала Мерседес, впервые забравшись ко мне наверх.
— Чердак как чердак, — скромно сказал я, почесывая затылок и глядя на беспорядок.
— Ты что рисуешь? — подошла она к мольберту, накрытому простыней. — Можно посмотреть?
— Я учусь реставрировать, — сказал я и сбросил простыню. — Хочешь чего-нибудь выпить? У меня есть водка.
— Не знаю… Впрочем, давай.
Я принес ледяную бутылку. Мы сели на диван, и я поцеловал ее большую светлую ладонь. Она смотрела на меня уверенно, прямо, без всякого выражения. Я подумал о том, что на коленях она, наверное, будет восхитительно тяжелая. Потом вспомнил тоненькую Матильду, и мне захотелось ее тоже увидеть. Мне было очень любопытно, что из нее получилось. Мерседес и тогда в Испании не была гадким утенком, а лебедь из нее получился и вовсе изумительный.
— Ты всегда была очень красивая, а теперь красива просто царственно, — не сказал, а промолвил я, трепеща, как мальчишка, ластясь к ее подмышке на диване, борясь с ее джинсами.
— Это что, — пропела она с шутливой самоуверенностью, — будет еще круче.
Мы лежали под запятнанной масляными красками простыней.
— Роди от меня мальчика, — сказал я слишком серьезно для того, чтобы она серьезно это услышала.
— Вот муж обрадуется, — расплылась она в ясной большезубой улыбке с ямочками на суховатых щеках.
— Нет, правда, — сказал я вполголоса в каком-то забытьи.
— О чем ты, маленький?
— О жизни.
Когда она приходила, я наполнял для нее ванну и одержимо бегал над ней с цифровой камерой, как Джеймс Кэмерон над «Титаником», потом, запинаясь, спешно стягивал штаны и лез в горячую воду мешать ей нежиться в пене. Может быть, поэтому она бывала у меня редко, а чаще я ездил к ней на работу, где она делала со мной всякие парикмахерские эксперименты. То меня мелировали, то заставляли мои волосы торчать жесткими сосульками, цвет волос у меня менялся как минимум раз в неделю. Впрочем, для скрывающегося человека лучше и не придумаешь.
Один раз в майскую жару, когда ее муж на три дня уехал в Германию, мы ходили с ее детьми в Версальский парк на привозные карусели, и я чувствовал себя счастливым, хотя и подтачивал меня лукавый червь гнусных сомнений. Все мы капля за каплей стекаем в этот взрослый склизкий мир из лукавства и предательства, в котором чужое счастье — это самое большое несчастье. Я держал за руку ее сынишку и чувствовал, какая она по-детски доверчивая, расслабленная, словно тающая. Он всегда виновато молчит, как бы спрашивая: ты мой новый папа? А я неумело ищу способы привлечь его внимание к лету и празднику, то сюсюкаю, то говорю как с подростком. Музыкальные карусели с застывшими в прыжке жесткими конями, у которых растрескались мускулистые задницы с развратно приподнятыми хвостами. Девчонка у нее худенькая, смуглая, хулиганистая. Когда она смеется, во рту у нее сверкают маленькие зубки. Смешная маленькая принцесса, вспомнит ли она меня, когда вырастет?
Дома мы уложили детей и долго шептались под торшером в соседней комнате за бутылочкой виски. Она сказала, что хотела бы закурить, но я попросил подождать, пока я уеду. Тогда она улыбнулась, легко дотронулась до моих штанов и увлажнила языком губы, но я сказал, что не могу сегодня.
— Прости, — серьезно сказал я, — у нас сегодня строгий пост, а я хочу причаститься на Троицу.
Она по-взрослому засмеялась и закурила. На самом деле мне просто не хотелось оскорблять этот день последними жалкими спазмами, после которых все, что было в парке, обессмыслилось бы, сквозь лживый матовый лед провалилось бы в пучину моего адского притворства. Я все упирался, а она смеялась.
На улице я взял такси до дому, и когда мы ехали через мрачный и душный Булонский лес (что Гефсиманский сад), водитель — араб с волосатым кадыком начал обсуждать проституток, указывать мне пальцем, смеяться, оголяя желтые верблюжьи зубы. А мне было их жаль. Правда. Очень грустно и жаль. Бледные мои нимфы в синтетическом хламе, как бы я хотел защитить вас от зла. Войти однажды в ваш мшисто-паршивый лес с пастушьей свирелью и освободить своей музыкой, так, как мы освободили Энрике Хомбрэ.