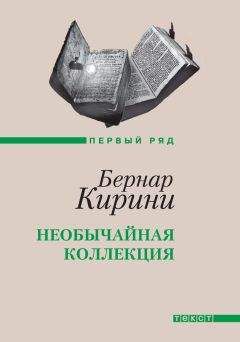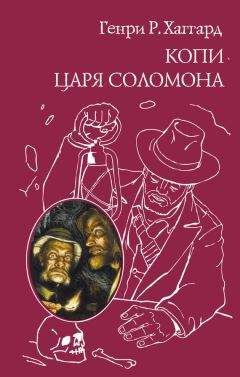Михаил Нисенбаум - Теплые вещи
А потом неспешное рассаживание, оглядывание органных труб и дубовых высоких панелей, наслаждение от неслаженных звуков настраивающегося оркестра. Ах, как же здесь хорошо! Как празднично и в то же время по-домашнему прилегает к душе все, что происходит вокруг!
Покупая вчера билеты в Большой зал консерватории, я был убежден, что два часа концерта пройдут приятно и с благородным оттенком аристократической респектабельности. Разумеется, теперь об аристократическом оттенке можно было позабыть. Почтенная респектабельность тоже не достигается ни хорошим двубортным костюмом, ни правильно повязанным галстуком, ни даже черным кружевным платьем. Потому что когда под двубортным костюмом так колотится сердце, когда так влажны от волнения ладони, чинные филармонические радости валятся за борт, и ты вместе с ними.
Было ли мне приятно? Клянусь тенью Карла Густава Юнга, это чертовски непростой вопрос. В первом отделении давали скрипичный концерт Брамса. Величественный, как огромный водопад, как зеленые холмы, видимые с высоты холодных облаков, как многотысячные стаи птиц, пологой рябью срывающиеся с вороненых озер. Величественный, как аспидская боль, от которой раскалывалась моя голова, так что хотелось, чтобы дирижер приказал оркестру заткнуться, а кто не послушается, того поучить дирижерской палочкой по холеным рукам, а мощного скрипача Виктора Третьякова загнать за дубовую дверь, откуда он не в добрый час выперся со своей монументальной манерой исполнения, мешая мне собраться с мыслями. Позовите врача! Капеллана! Уведите детей, женщин и стариков! Впрочем, старики могут остаться.
Собраться с мыслями было абсолютно необходимо, так как мысли эти носились в голове даже не как вышеупомянутая многотысячная стая птиц, а как взбесившиеся летучие мыши-шизофренички в гулком бидоне.
Некоторая часть мыслей могла бы считаться приятной, например, воспоминание о запахе Санькиных волос, о ее руке, которая зачем-то легла на мою руку, а еще более о том, что она находится рядом прямо сейчас. Но даже эти приятные мысли были неспокойны и как-то чересчур велики для моего ума, так и норовя взорвать его на прозрачные пестрые конфетти.
Но, помимо этих радостных в общем-то мыслей, в голове было не протолкнуться от мыслей ужасных. Во-первых, это были мысли о Коле. Конечно, Саня и Коля разводятся, это точно, извивалась подленькая мыслишка. Саня свободна! Тут откуда-то строго отвечал другой голос: пусть даже она и свободна, но твой друг-то несчастен, его бросили! А если... Что если... Если рука легла на руку неслучайно, получается, что бросили Колю ради меня? Но даже если не ради меня, а я воспользовался... Нет, это категорически немыслимо!
Во-вторых, был еще этот Олег. Как же Олег-то? Существует он или просто выдуман, чтобы отделаться от мужа? А если существует, как же это – рука, голова на плече?.. Зачем это, как с этим быть? Может, ничего такого и не было? Просто доверчивый дружеский жест. По-девчоночьи... Может, нечего раздувать все эти руки и головы?
Украдкой поглядывая на Санькин профиль, я видел, что гордое величие музыки передалось и ей, она была строга, почти надменна – дудинская принцесса с официальным визитом. Хорошо еще, что я помнил про ее уши.
Но самое невыносимое было то, что все эти мысли приходили в голову не одна за другой в каком бы то ни было порядке, а все скопом, и, понятное дело, не могли в ней поместиться. В антракте мы в окружении нарядной публики фланировали по светлому фойе. Александра, дудинская принцесса, милостиво взяла меня под руку.
Чувствовалось, что она наслаждается новой ролью, осматривая глазами окружающих себя, свое платье, прическу, своего кавалера и довольна увиденным. Таинственная улыбка играла у нее на губах, и время от времени я слышал, что ее пальцы сдавливают мой локоть чуть сильнее.
Мы молчали. Некоторое время молчание было оправдано послезвучием Брамса, но потом Брамсом отговариваться было уже невозможно. Никогда до этого момента у нас не было таких длинных пауз. Следовало выбрать тему для разговора, не касающуюся ни Коли, ни Олега, ни Тайгуля, ни прошлого, ни будущего, а стало быть, говорить было почти не о чем.
– Когда-нибудь я хочу написать твой портрет, – откашлявшись, произнес наконец я. – Будто ты сидишь у окна, на тебе платье в весенних цветах, и в волосах цветы... Причем те и другие – настоящие. За окном сугробы, домик маленький, высокие сосны – тоже все в снегу. А весна – это ты.
Видимо, подсознательно я ожидал некоторой благодарности за свое обещание, потому что очень удивился, когда Санькины пальцы почти разжались, точно я сказал какую-то бестактность.
– Таак, – протянула она. – Продолжайте, молодой человек...
В голосе ее не было никакого неудовольствия. «Что ты делаешь? Это же ухаживание! Ты что, увиваешься? За кем, за Санькой? Надо спасать их брак, а ты тут лирические акварельки разводишь!»
– А помнишь, как мы ходили втроем зимой на Трехскалку? – мужественно принялся я делать отвлекающий маневр. – Коля вымачивал курятину в лимонном соке с водкой, а потом мы жгли костер, и было не холодно совсем. Вроде бы будний день был, в лесу ни души...
Ее пальцы опять нежно сжали мне руку. Странно.
– Помню, так весело было! А помнишь «малшык в оранжевый куртка»?
Конечно, я помнил. Уже после костра мы шли по лыжне, а нас обогнал подросток в оранжевой куртке, который немедленно после этого въехал в кусты. Мы с Колей отпускали реплики в стиле томных бухарских эмиров, поощряющих юного ганимеда: «Слушай, малшык в оранжевый куртощка, ти зачем так в кустик сабежал, щто там у тэбе пирипасено?», «Ай, давай еще са следующий кустик сабеги – вот так, вот так, ай, красиво как побежал, ай, ладный фигурка у тэбе!». И слегка помахивали рукой в варежке, как бы толстыми пальцами, унизанными перстнями.
Все это была совершеннейшая глупость, и смеяться было не над чем, но мы были три молодых дурака (точнее, два дурака и одна дуреха), вокруг – сказочный уральский лес в богатых снежных шубах, воздух искрился легким морозцем, впереди нас ждал целый свободный вечер, и наш хохот был проявлением полноты жизни и общей радости тому, что мы вместе и нам так хорошо, и всегда будет так хорошо или даже еще лучше.
19
В консерваторском буфете Александра отняла у меня руку, мы стояли в очереди за кофе и бутербродами с нежным, как зрелая луна, сыром. Улыбались, переглядывались, почти ничего не говоря. Буря внутри улеглась, стало тихо и хорошо. Прозвенел третий звонок: антракт закончился. Вспомнив наш зимний поход втроем и отогнав терзавших меня демонов, я слушал музыку и слышал ее как бы впервые.
Минор подкрадывался на ночных лапах, обносил лампадными огнями, отирал измученный лоб нездешним ветром, окружал добрыми тенями и улыбчивыми обаятельными масками. Я чувствовал полную беззащитность перед музыкой и такое доверие, как будто рождался ею заново: без опыта, без памяти, без страха.
Шли гуськом гобои, кларнеты, фаготы и флейты, пели под сурдинку скрипки, важно и вежливо басила виолончель. Все было любовь, и ничего, кроме нее, не было у меня. «Чего же тебе еще, если она лучше знания, опыта, борьбы, потому что выше и полнее?» Шла процессия кланяющихся лесов, проливались звезды и отменялись ссоры, разлуки, здесь мы дружили, любили и были вместе навсегда.
* * *...Дорога назад... Притихшие, сонные, неслись мы в грохочущих тоннелях. Мелькали, задерживались и снова отплывали станции, бесплотный голос объявлял остановки, а мы были вне времени, как бы совсем в другом пути. Санина голова лежала на моем плече, но сейчас меня это не смущало и даже не волновало: на новые переживания не было сил.
Не уверен, что мы думали об одном и том же, когда выходили из «Пражской», ловили машину и ехали к Таниному дому. Молчание не тяготило, потому что в нем жила та самая музыка. А может, это слово заменяет другое, которое лучше подошло бы для обозначения моего состояния. Но слова этого не существует или мне просто неохота его произносить.
– Мишечка, спасибо за чудесный вечер. Так спать хочется, не знаю, смогу ли раздеться, – сказала Саня у самого подъезда, уткнувшись носом мне в щеку.
Татьяна, открыв дверь, внимательно посмотрела на нас:
– Пройдешь? – спросила она меня, так что стало ясно, что такой вариант не предусмотрен.
– Слышь, Танюх... А завтра можно у тебя заночевать?
У Сани самолет рано утром, мы бы от тебя и поехали...
– Будешь спать на раскладушке, – сурово отвечала Меленькова. – На старой и скрипучей, понял?
– Понял, – покорно вздохнул я.
– А тут Марат весь иззвонился, – добавила вдруг Таня. – Опять стихи сочинил. Хотел прочитать при всех.
Она коварно блеснула очками на Саньку. «Зачем она это говорит?»
– Съело НАТО моток шпагата? – спросил я иронически.
– Я думаю, – омерзительно-куртуазным голосом молвила интриганка, – это стихи о прекрасной даме.
– Страны – участницы Варшавского договора съели тапок Дункан Айседоры?