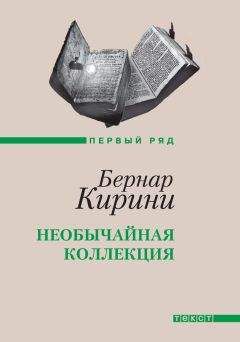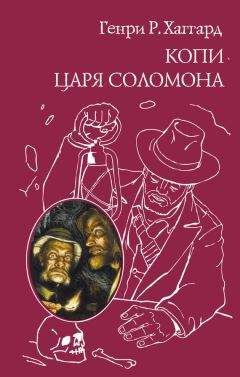Михаил Нисенбаум - Теплые вещи
– Ну, читай, дурило.
– Пожалуйста!
Марат повесил на плечики дубленку, встрепенулся усами, вскинулся бровями, сверкнул очами и сказал:
Съело НАТО
кусок говна-то?
И торжествующе полез обнимать нас с Таней.
– Ну ты и идиот! – отозвалась Танька, высвобождаясь из усатых объятий. – Все?
– Все.
– Тогда до свидания.
– Как это «до свидания»? А это у вас торт стоит на столе?
– Торт, да не про тебя.
– Сейчас впаду в норвежский синдром прямо под вешалкой.
Но не успел Урбанский впасть в предсказанный синдром, как электрокукушка прокуковала снова. На этот раз за дверями оказалась Санька. Улыбающаяся, раскрасневшаяся с холода, с двумя огромными чемоданами на колесиках.
Сумятица в маленькой прихожей, несвязанные реплики, похожие на настройку инструментов перед началом концерта. Потом мы сидели на кухоньке, пили чай с тортом (торт ели только мы с Урбанским) и беседовали оживленно, но, пожалуй, несколько светски. По-другому быть не могло: три человека из четырех впервые видели друг друга. Разумеется, никак невозможно было говорить о Коле, об Олеге, о разводе, о планах на будущее. Говорили о Дудинке, о «Машине времени», о Норвегии, о Бродском и Искандере, а я всматривался в Саньку и искал глазами случившиеся с ней перемены. Не было никаких перемен. Но узнавание походило на пробуждение. Я узнавал – и словно впервые видел ее. А она, точно чувствуя, что происходит со мной, улыбалась смущенно и нежно. Казалось, что в обычном течении беседы за столом образуются медленные невидимые заводи, вкрапления вечности, когда мы с Саней встречались глазами и беседовали поверх слов и обстоятельств.
– Господа офицеры! Пожалуйте в казармы! – сказала, наконец, Таня, убирая чашки со стола в раковину. – Барышням пора баиньки.
– Позвольте сопровождать вас в обьятья Морфея, – галантно предложил Урбанский.
– Сами не заблудятся, не маленькие, – одернул я его. – Пошли!
– Как знать... – задумчиво произнесла Санька. – Я ведь первый раз в Москве.
На «Пражской» я извинился и под предлогом срочного звонка простился с Маратом. Хотелось побыть одному. Народу в метро почти не осталось, вагон был пуст. Нам так и не удалось поговорить с Саней. Прикрыв глаза, я вспоминал ее лицо, руки, улыбку и сознавал, что разговор о Коле и разводе не то чтобы неважен, но теряет мучительную неотложность. У нас оставалось два неполных дня.
17
За час до концерта Саня забежала ко мне домой. Бабушка еще не пришла с работы, я уже в третий раз повязывал галстук. Галстук оказывался то слишком длинным и торчал из-под пиджака, то весь уходил в широченный узел, из которого издевательски показывал мне треугольный язык.
Хотя Санька позвонила положенные два раза, в коридор с мимолетной задумчивостью выпорхнули Настя, девушка со стажем, и Анна Игнатьевна, старуха-мизантроп. Не ответив на «здравствуйте» ни единым звуком, они ухитрились каждая из своего угла показать, что с этой секунды Санька – их главный враг, а от меня ничего другого, кроме такой низости, не приходилось и ожидать. Конечно, я ведь подло отворил ворота их будущему главному врагу.
Из темного коридора мы юркнули в бабушкину комнату. Лужайка света грела обои, на боках чашек веселели огоньки.
Когда я принимал с Саниных плеч шубку, на лицо вспорхнуло и обняло его ароматное тепло. На ней было черное кружевное платье – роковое. Может быть, из-за платья, а может, оттого что она здесь первый раз, Саня церемонно присела на краешек дивана. Смутившись, я принялся хлопотать над чаем, раскрошил вафельный тортик, искал позолоченные ложечки с павлинами на черенке.
Вчера говорить о Санькиных обстоятельствах было нельзя, но сегодня следовало обсудить их немедленно, возможно, посвятить этому весь вечер. Но как начать этот страшный разговор, я не понимал, и поэтому суетился.
– Как же все теперь будет? – пробормотал я наконец, подкладывая ей в блюдце кусочек торта. – А, Сань?
Она молчала и смотрела на меня добрыми серьезными глазами. («Какие у нее, однако, ресницы!»)
– Коля мне родной человек, мне ужасно жаль... что так все выходит... Но так будет по-честному, – заговорила она.
– Вдруг ты еще передумаешь? – Как неубедительно звучали мои слова!
Чертовски не хотелось спрашивать про этого Олега, как будто само упоминание этого имени окончательно узаконит его существование, а меня запятнает предательством. Но рано или поздно придется говорить о нем, потому что Санька – мой друг. Нельзя же игнорировать ее главные чувства!
Она покачала головой:
– Все это была игра какая-то. Песни, свечи, стихи... А шкаф? Дверцу веревочкой два года завязываем. А у дивана ножка подломлена, книги подложили – да так и осталось. Полку кухонную с помойки принесли, отмыли...
– Но спелись вы хорошо же!
– И было хорошо, и было бы... – Она помолчала. – А знаешь, я иногда думаю: если бы меня не отговаривали от этого замужества, ничего бы и не было. А так получилось, что кроме чувств к Коле было еще чувство борьбы, я к свободе стремилась! Все это сложилось и вышло, что чувств – много. А в последнее время игра стала неинтересной. Наша с Колей игра. Север – там дом нужен, семья настоящая, иначе – какой смысл ехать в Дудинку? А семьи по сути нет, так, дуэт один...
Тиски обиды сжали мне зубы. Дуэт – это мало? Я любовался ими, мечтал о своей паре и всегда понимал, что такой чуткости, такого созвучия никогда у меня не будет, не может быть. И вдруг – надо же! – выходит, что дуэт меньше, чем семья.
– А что тогда семья? – спросил я тонким от досады голоском. – Борщ со сметаной? Семеро по лавкам? Как за каменной стеной?
– Сядь ко мне, сюда, – попросила Саня, погладив диван рядом с собой.
Я сел, так же, как и она, на самый краешек дивана, и продолжил:
– Думаешь, так легко найти своего человека, с которым можно говорить часами? Чтобы он тебя любил, слышал, да не просто слышал, а в другом цвете... С которым... Ну как ты не понимаешь!
Тут ее тонкие пальцы легко легли на мою руку. А через мгновенье в полуобморочном изумлении я понял, что ее голова лежит на моем млече. Запах ее волос и духов обступал меня, как пион – одуревшего шмеля.
– Это ты говоришь о себе, а не обо мне, – ее голос теперь был как бы частью моего тела, – это ваши отношения. Они другие, это же мужская дружба, и она у вас остается. Я рада, что ты есть у Коли, он ведь только о тебе и говорит...
– Да при чем тут...
– Я о себе столько не слышала, сколько о тебе, все Миша да Миша. Прямо не дружба, а любовь какая-то, – она хихикнула, – и так это заразительно...
Хорошо бы сердцу так не прыгать, оно меня не только выдает, так еще и наговаривает лишнего. Какой-то сильный круговорот мягко принял мою голову и стал ввинчивать куда-то в запахи, обрывки тревоги, праздничную толпу; к губам подступала преступная исповедь, и чтобы отогнать или хотя бы отсрочить ее, я сказал сдавленным голосом:
– А ведь нам выходить уже пора.
Голос сделался мне чужд, но сама обычность сказанного отрезвила. Безумство карнавала и вихри танцующих садов превратились опять в вечернюю бабушкину комнату, остатки торта в картонке, в пиджак, криво висевший на стуле (один рукав почти доставал до полу, точно в земном поклоне). Плечо милело памятью о недавнем прикосновении.
– Тут совсем недалеко, – стал говорить я, словно стараясь отогнать все еще близкое колдовство, – пешком, не торопясь, минут за пятнадцать дойдем.
– Как я выгляжу? По-консерваторски? – хитро спросила ничуть не смущенная Санька.
Она знала! Она все знала и смеялась надо мной! Но смеялась так, как будто она за меня, на моей стороне.
18
Неширокая улица Герцена, свет вечерних витрин, бронзовый Чайковский в позе романтического ямщика, от которого незаметно уехала бричка. Серая путаница зимней сирени. У Никитских ворот толпа просеивается, впуская в улицу, под чинные фонари, театральную и консерваторскую публику. Семейные пары в дорогих шубах, одинокие зябнущие чудаки, студенты и студентки, музыканты с черными футлярами всевозможных форм и размеров идут к Консерватории особым шагом, точно по нотам беззвучной увертюры золотых и бархатных предчувствий. С этих предчувствий начинается музыка – ее дальние предгорья. С каждым шагом предчувствия нарастают.
Вот и полукруглый консерваторский дворик, вот и взволнованные дамы, шепчущие про лишний билетик, вот и старинные двери в первое, слабенькое тепло круглого пустого зальчика, в котором звук шагов слышен не у пола, а почему-то у потолка – ах, как таинственно дрожит и покалывает каждый таинственный щелчок! Стеклянные грани отражений в следующих дверях, маленькая воспитанная толпа у касс. Поворот, еще полукруг стеклянных отблесков – и вот ты уже в настоящем большом тепле, приправленном дорогими духами, кожей, сукном и каракулем, запахом типографской краски со свежеотпечатанных программок. Пурпурный мох дорожек на паркетах, высокие своды, строгие пожилые билетерши на ступенях, мраморные колонны – гвардейское каре по периметру гардеробов. Перестук шагов все шире, невнятней, плотнее. Откуда-то доносится аромат свежего кофе, нарядными мальками юркают сквозь волны публики дети – а как же, сызмальства в мир прекрасного (свирепый шепот: «Тише, сиди смирно, ты мешаешь соседям, Алеша, ну потерпи, скоро кончится!»). Приятные улыбки, узнающие взгляды, бархатные портьеры, парадные портреты в простенках между окон, и всегда чуть более оживленный шум в буфете.