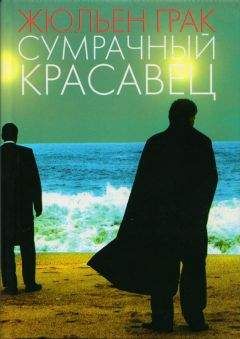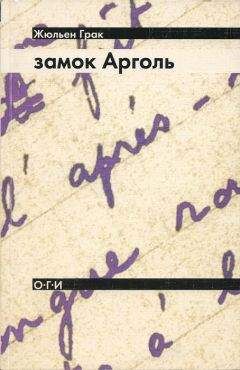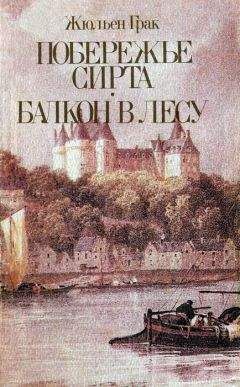Жюльен Грак - Побережье Сирта
А когда, покидая салоны с их парадными, скованными светским притворством беседами, и отправляясь бродить наугад по улицам города, я старался наполнить легкие и дать им пропитаться новым воздухом, которым теперь дышали в Орсенне, то я чувствовал, что светлая часть идей, та, что еще осталась, уже перестала быть самой значимой и что повседневная жизнь лепечет на каком-то странном, не зафиксированном ни в одном из словарей языке. В этом раскинувшемся на теплых землях городе жизнь вне дома всегда несла на себе — возможно, то был отблеск древней военной дисциплины, впитанной им еще в эпоху становления, — отчетливо проступающую печать суровости и холодности: Орсенна, где в одежде преобладали темные тона и строгие покрои, где женщин отличала высокомерная сдержанность, а мужчины не завязывали бесед на улице и не скапливались в толпы, в глазах экспансивного населения южных областей, удивляющихся подобной сухой гордыне, Орсенна выглядела «ледяным сердцем» Синьории: здесь, как ни в какой другой столице, почти физически ощущалась давняя близость великой власти, частицу которой в себе склонен был уважать каждый житель, а тем более каждый гражданин. Однако теперь, к моему удивлению, орсеннская улица стала оживать. Казалось, она притягивала людей сильнее, чем обычно; теперь люди обращались там друг к другу, даже не будучи знакомыми, и стоило только какому-нибудь голосу прозвучать громче обычного, как равнодушный беспорядок уличного снования, казалось, тут же начинал намагничиваться: черные силуэты слипались вместе, напрягая слух и как бы надеясь, что эти же уста донесут до них звук далекого голоса, что вот-вот раздастся шепот оракула, который, может быть, высвободит в них самих нечто такое, что они не смогли высказать и что, будучи высказанным, принесло бы им какое-то смутное облегчение. Теперь погруженный в вечерние улицы взгляд уловил бы в движении кишащих там черных точек уже не разобщенную и нестройно жужжащую в сумерках массу насекомых, а скорее мелкую металлическую пыль, которую непрерывно подхватывали и слепляли в комки невидимые магниты; в этот час, несущий более тяжелое, чем обычно, бремя судьбы, иногда возникало такое ощущение, словно начертанные историей на земле Орсенны главные силовые линии вдруг вновь начали заряжаться активной электрической энергией, вдруг вновь обретали способность повелевать этими остававшимися в течение долгого времени разрозненными тенями, внемлющими теперь, помимо своей воли, доносившемуся из зоны прописных истин шепоту. В результате верхний город — то ядро, из которого когда-то выросла Орсенна, — теснившийся среди болот на крутом холме вокруг собора Святого Иуды и сурового феодального замка Наблюдательного Совета, по вечерам снова видел, как по его извилистым улочкам течет толпа, которая уже давным-давно покинула его ради более просторных и более деятельных кварталов низин, куда переместилась большая торговля; казалось, что город вновь каким-то таинственным образом восстановил свою нервную систему и что после нескольких часов работы сердце его вновь обрело свой нормальный ритм. Мелкий люд из предместья, толкавшийся до позднего вечера на этих темных улочках с глухими и гулкими фасадами, превратил их в биржу новостей, в учебный плац и в открытый для всех вольных ораторов театр; с тех же самых перекрестков и из тех же подворотен, откуда в былые времена взметнувшиеся цеховые стяги подавали сигнал к мятежам, теперь неслись воинственные крики и шовинистические подстрекательства, а открытые, кричащие рты порой зияли такой беспросветной чернотой, словно через них извергался весь тот мрак, что таился до этого в могилах города. Как пользующиеся дурной славой места прячутся порой в тени святилищ, так и старый Альдобранди перебрался в верхний город и расположился там в своем логовище, в своем городском доме, покинув ради него свой угрюмый дворец в Борго, и по мере приближения к нему на близлежащих улочках все больше чувствовалось какое-то особое брожение толпы: речи там становились грубее, слова категоричнее, оттуда шло множество воинственных призывов, и нередко там возникали драки; поговаривали, что с наступлением ночи в ход там идут менее возвышенные аргументы, что кто-то щедрой рукой раздает серебро и разливает вино; особенно тревожный знак увидел я в том, что на подступах к дворцу упорно избегала появляться совершающая свои ночные обходы полиция: это значит, что там уже создавалось — как всякий раз при ослаблении власти — в результате сложного взаимодействия страхов, расчета и инертности нечто вроде концессии, или свободной зоны, куда инстинктивно тянулся всякий сброд, растягивая ее края, отчего зона все расширялась и расширялась, как какое-нибудь истертое там и сям полотно, на котором, едва его немного потянешь, обнаруживаются места истонченной фактуры, готовые вот-вот порваться; хотя никто и не желал этого признавать, но в Орсенне уже появились островки неповиновения. Днем там гневно возмущались общепризнанной слабостью Синьории перед лицом провокаций, а ночью старались аргументировать свое мнение, взламывая пустые лавочки и воруя часы: подобные доводы оказывались довольно эффективными.
Однако это, похоже, никого не волновало, поскольку даже среди чиновников, ответственных за безопасность города, на такие симптомы, как ни странно, смотрели вполне благодушно; мало того, смутьяны могли даже рассчитывать как минимум на полусообщничество. Городом овладело нечто вроде ускорения: все, что, казалось, шло вперед, двигалось быстрее, вызывало у людей тайную зависть или восхищение, в чем, правда, они признавались не всегда. В самых что ни на есть закрытых салонах появился новый предрассудок, издержки которого Альдобранди, пользовавшийся теперь в этих салонах полной свободой действий, покрывал с непревзойденным цинизмом: малейшее порицание действий его банд было бы расценено как признак дурного тона, как проявление безнадежно устарелого мышления, как безоговорочное осуждение того исторического момента, о котором модно было говорить словами «времена изменились». А почему они изменились, этого не смог бы сказать никто, но не исключено, что люди так выражались вовсе не ради красного словца и не ради того, чтобы констатировать какое-то конкретное изменение порядка вещей: скорее, то было своего рода притязанием на способность улавливать момент зарождения ветра, момент, когда незаметно тяжелеет воздух и когда, не имея никакого материального доказательства, мы все же безошибочно узнаем об «изменении» погоды. Причем новым казался не только более зловещий грозовой тон, омрачивший внутренний пейзаж каждого жителя — словно все они теперь принялись читать загорающееся сполохами будущее сквозь затемненные очки, — но и сам явно изменившийся ритм орсеннского времени. Посреди высоких стен, то замкнутых и строгих в своей средневековой наготе, то убранных в немыслимые гипюры, которые, словно наряд безумной ночи, разбросали по фасадам века изобилия и радостной лихорадки накопления, когда нездоровый, поднимающийся в Орсенне по вечерам ветер сметал с дороги последние опавшие листья, а последние прохожие нижних кварталов исчезали из виду под редкое хлопанье тяжелых дверей, в такое время у меня появлялось — от ходьбы по расширявшимся в вечернем свете улицам, которые казались подметенными специально для того, чтобы их мостовую покрывали шаги новой толпы и освещало солнце нового дня, — никогда ранее не испытанное ощущение того, что по улицам, пересекая их, течет само время, течет, струится потоками, как кровь. И складывалось такое впечатление, словно каждый, прильнув к этому источнику, черпает там надежду и силу, как в первом порыве ветра открытого моря; такое естественное братство, объединяющее людей на улице, независимо от того, к какому они принадлежали классу, независимо от их бедности либо богатства, походило на братство людей, плывущих на одном судне и связанных друг с другом единой жизнедеятельностью всего экипажа корабля в тот момент, когда он снимается с якоря и когда в воображении слова «смерть» или «болезнь» бледнеют, а их место занимают слова «тайфун» или «кораблекрушение». Великое исключительное право, принадлежащее всем людям, ослабляло натяжение пружин ревности и зависти, выравнивало ряды и перемешивало податливую массу бушующей толпы, а народ, целый народ, получивший это право, прильнул к земле, внутренним слухом уловил, что настало время выйти на сцену, и, повинуясь инстинкту, вырвался из трущоб и подземелий и стремглав, не разбирая пути, бросился на свет, на свет того великого дня, который стоит того, чтобы в нем сгореть.
Такие мысли приходили мне в голову, когда в уже густых сумерках короткого зимнего вечера я направлялся по улочкам верхнего города к старому дворцу Совета. Неожиданно возникшее у меня желание пройтись пешком заставило меня отослать назад традиционную закрытую машину, которую из осторожности присылал Наблюдательный Совет, предпочитавший не привлекать внимания прохожих к тем редким, переступающим его порог силуэтам, которых он считал нужным приглашать. Погода стояла ясная и холодная; сухой северный ветер рассеивал поднимавшийся с болот туман, и иногда из постоянно меняющего направление городского лабиринта, за узкой, как траншея, потоком сбегающей по склону улочкой, открывался вид на голубоватый, распластавшийся внизу город с его первыми светящимися звездами, которые окаймляли похожие на тучи в небе черные пятна близлежащих лесов, а из казарм в прозрачном воздухе разносились кристальные, словно очищенные расстоянием протяжные ноты труб; такой же вот тяжелой лавой тек по земле укрывшийся за горизонтом ото всех взглядов Город, едва заметным профилем вырисовывавшийся в глубинах каждой мысли, когда на него смотрели из своих орлиных гнезд древние правители. Из далеких домиков, затерявшихся на кромке лесов, поднимались одна за другой струйки дыма, которые, сливаясь воедино, покрывали легким маревом выставивший вверх свои башни и колокольни центр города. Горизонт, ставший на севере уже неотчетливым, сливал свою извилистую линию с высокими лесами, а в просветах улочек, спускавшихся в противоположном направлении, вдали еще можно было различить более светлые полоски: невозделанные южные степи, которые начинались за Мерканцей; старые торговые дороги все еще поблескивали слабо там и сям, покрывая глубокими рубцами убегающую перспективу спящих равнин; рынки, крепости, склады, места битв согласовывали свой ритм со шрамами этой мертвой лунной поверхности, распростершейся под спокойной невозмутимостью звездного неба; тот, кто читал Орсенну, как открытую книгу, сказал бы, что она в этот час повернула к небу свою раскрытую ладонь. Идя в этот час по продуваемым ветром, резко меняющим свое направление улицам, пересекая закованные в латы твердокаменных фасадов и похожие на глубокие колодцы маленькие площади, глядя на все это скопление суровых, четко очерченных глыб, из которых состоял начинавшийся недалеко от монастыря и от крепости верхний город, я остро ощущал присутствие их строгой мощи и печальной суровости. Из этой обсерватории, расположившейся под твердым, как бы остекленевшим небом, по которому были прочерчены строгие линии, остальная земля, морщинистая, с бегущими по ней размягченными тенями, виделась, как с мостика военного корабля: здесь должны были обитать, питаясь лишенным вкуса и аромата воздухом, который омывает высокие скопления голых камней, дух высоты и засухи, лишенные влаги, никогда не моргающие веки, подолгу сощуренные над своими таинственными и точными визуальными приборами, и отвердевшие зрачки, созданные для того, чтобы расшифровать точки и линии — тот бесплотный чертеж, каковым представала отсюда земля Орсенны.