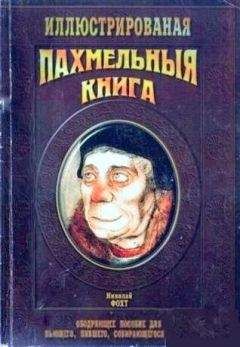Роберт Шнайдер - Ступающая по воздуху
Полуденное солнце палит без удержу. Небесная высь как мутное стекло. Воздух зыбится в далях и морочит глаз отражениями и миражами. Вечные льды на гребне Кура стали смещаться, такое случается раз в сто лет, как утверждает местная хроника.
Около десяти кто-то позвонил в дверь Харальда Ромбаха. Для него это не было неожиданностью, так как он тут же открывает дверь. Константин Изюмов в голубой футболке и полотняных брюках улыбается, засматривая ему в глаза, и входит. Харальд не очень-то разговорчив с утра, и Изюмов считается с этим. Несколько скупых указаний, связанных с тем, что каждый раз в июле легочно больной Изюмов припоминает предложение отдохнуть на море. Ромбах вручает ему связку ключей в чехольчике из серой кожи. Русский благодарит и собирается уходить, но Харальд останавливает его. Ему только что пришло в голову предупредить: в этом году Изюмов будет на вилле не один. Там уже две недели живут Эстер и Мауди. Но места хватит всем, и, если угодно, можно даже не пересекаться друг с другом. На секунду Изюмов удивленно замирает. Затем вдруг улыбается, церемонно благодарит и уходит, спускаясь к своей машине.
Харальд в пижаме и темно-зеленом шелковом халате направляется в свою половину дома, где его ждут не просмотренные до конца газеты. Поднимаясь по лестнице, он слышит голос из-за двери, ведущей в комнаты Инес, — голос Бауэрмайстера. Только этого не хватало. Разумеется, было бы куда лучше, если бы дом унаследовал он один. Но старик спутал все карты. Наверху, в спальне, Харальду трудно сосредоточиться. Он думает об Изюмове и думает о Мауди. И о том человеке, что погиб десять лет назад.
Он погружается в размышления. Бессмертие, должно быть, вопрос памятования. Человек продолжает жить до тех пор, пока о нем думают. А уж после он вправе умереть и быть забытым. Забвение — высшая честь, какая только может быть оказана человеку.
Ромбаху неведома категория раскаяния. Когда обнаружили труп человека — Харальд так и не узнал, что это Бойе, — поначалу не удалось даже определить пол, не говоря уж об установлении личности. То, что осталось от тела, пришлось в буквальном смысле смывать с дорожного покрытия, писала газета «Тат».
Тем не менее Харальд страдает. Не от раскаяния. Раскаяние он понимает как неточность ощущений и называет его китчем. Нет, страдает он оттого, что не может больше обрести неописуемо прекрасного чувства сердцебиения. Поэтому прошлой осенью он еще раз встретился с Мауди. Он просил ее раскрыть тайну. Он молил ее дать соответствующие показания в полиции и тем самым избавить его от этого. Чтобы сделать это самому, ему не хватает необходимого побуждения.
Но Мауди оттолкнула его от себя. Ее слова звучат у него в ушах и сейчас, когда взгляд скользит по засыхающему внизу саду.
— Ты хочешь, чтобы я сохранила тайну. Я буду ее хранить.
Взгляд Харальда вязнет в кленовых листьях. Он берет чашку с остывшим чаем и листает газеты.
Голубоватую кору эвкалиптов на Монталлегро, белые стебельчатые цветы миртов, лавры и олеандры, темные как морская бездна, козырьки пиний тоже обдавал беспощадный жар. Но южному солнцу это всегда прощалось, и в Рапалло начинается привычно знойный июльский день. Перед храмом делла Мадонна ди Монталлегро колышется толпа седовласых женщин и нечесаных детей. Месса закончилась. А там, позади, пылает красной черепицей кровли вилла Ромбахов.
Мауди спит. Эстер уже проснулась и давно не сводит глаз со спящей подруги. Пора бы уж и встать, думает она, неплохо бы вместе махнуть в Геную. Эстер приникает ноздрями к шее Мауди, ловит ее запах и ощущает горячее дыхание. Эстер целует Мауди в лоб, но та лишь отворачивается. Эстер поднимается и идет готовить завтрак. Свист чайника, должно быть, разбудил Мауди, и с заспанными детскими глазами и слежавшимися волосами она садится за стол. Эстер дает ей очухаться. Потом они принимаются обсуждать планы на день, отменяют поездку в Геную и принимают решение купить в Санта-Маргерите новые купальники. Оттуда — двинуться дальше — на мыс Портофино и, если будет время, добраться даже до Сан-Фруттуозо. Туда можно попасть только на судне. Они хотят увидеть «Христа в пучине», ту самую бронзовую статую на морском дне, изображение которой по-своему впечатляло их еще детьми.
Полуденное солнце — это уже война. Люди зашторивают окна и затемняют помещения насколько возможно. Тот, кому сейчас приходится зарабатывать свой хлеб под открытым небом, на стройплощадках и дорогах, ничем не лучше собаки. А у собак-то, говорят, виллы на Босфоре, вздыхает бригадир в тени бульдозера. Окриками на рудиментарном немецком он подгоняет подсобного рабочего. Волна зноя просто смывает с крыш черепичников и жестянщиков. Нет в Якобсроте человека, который не стенал бы от убийственной жары. Даже там, где обычно купаются, всякие попытки освежиться — не более чем пустой ритуал, а в пойменных лугах от озер остались только лужи с теплой мутью.
Те четверо, в Магдалинином лесу, напились в хлам. Наводчик, рыжеватый пухлый паренек, заснул на собственной блевотине. Двое его сослуживцев бормочут тосты, клянутся в дружбе до гроба, толкаются, утратив чувство дистанции. Рюди вырезает кресты на палке из орешника. Секретная акция, говорит он, переносится на вечер.
— Так точно, господин командир танка! — тяжело ворочая языками, ответствовали ребята.
Кассетник крутится, шурша лентой, но она не пустая, как могло показаться, так как неожиданно прорывается музыка. Раздаются вопли Курта Кобэйна, а гитары имитируют адский шум моторов. Кобэйн орет, и уж вроде бы более страшной боли ему не выорать, но он все ревет и взвизгивает, пока не глохнут моторы, теперь уже шум выражает реакцию публики.
Эдуард Флоре лежит, растянувшись на плиточном полу кухни, медленно дышит и жаждет прохлады. Несмотря на то что с утра все окна квартиры были плотно зашторены, ему кажется, что жарища еще сильнее прокаляет все его жилое пространство на первом этаже. Ни сквознячка, ни слабого дуновения, сколько ни жди. Лоб ублажается мокрым полотенцем. Так он думает продержаться до послеполуденной поры. Однако он чувствует душевный подъем. Прокручивает в голове самые коварные куски нотного текста. Это — трель в aria di postiglione[39], там, где подразумевается почтовая карета. Он мог бы, конечно, обойти эти рифы, просто пропустив каверзные места на концерте. Но бабушка-то на небесах все видит и слышит. Нет, при ее жизни ему не удалось оправдать их общих ожиданий. Он перевертывается на живот, и тело впивает прохладу плиток. Опять на ум приходит Эмили. Он пытается восстановить в памяти черты ее лица. Но сколько лет заслонили его! А вот пурпурное платье он помнит, как будто видел его вчера. И синие чулки, конечно. Эмили заметила бы обман еще раньше, чем бабушка. Нет, нет. Он останется честным человеком. Он не пропустит ни одной ноты. Ни одной. И как ему вообще могло прийти в голову такое…
При зеленоватом свете настольной лампы Харальд читает Книгу Товита. Он сравнивает текст Вульгаты с лютеровским переводом. Выясняется, что juvenis splendidus Лютер перевел как славный молодой парень, который встречает Товию и вместе с ним пускается в странствие, хотя Товия не узнал в нем ангела. Харальда зло берет. Точность и ясность латыни, лаконизм ее поэзии совершенно утрачены в немецком переводе. Харальда не оставляет мечта создать такой язык, в котором будет исключена всякая неточность. Прилагательные, по его мнению, давно бы следовало запретить. До чего презирает он литературу, разукрашенную метафорами.
На берегах узкогорлой бухты Портофино северяне сжигают свою белую кожу. Ни в одном из кафе нет свободных мест, но, проявив терпение, сестры все-таки захватили столик в тенечке. Уселись они надолго, неторопливо потягивая перно. На Эстер было свободного покроя короткое платье с белыми цветами на лазурном фоне. Это делало еще ярче ее кофейный загар. И еще ярче зажигало глаза мужчин на их спекшихся от солнца лицах. Мауди была одета в мешковатую футболку и в испещренные зелеными и красными крапинками брюки из тонкого джерси. Сорокалетний мужчина уже не довольствуется просто зрительным контактом, его тянет к словесному общению. Словно сговорившись, обе надевают темные очки и отвечают ему по-французски. Когда этого оказывается недостаточно, Эстер отшивает его более ясными словами. Человек в панамке бормочет извинения и ретируется. Эстер сожалеет о том, что обошлась с ним столь бесцеремонно.
Разговор переходит на любовь. Эстер осторожно, точно на ощупь, подбирается к сути. Она вдруг подумала о том, почему у Мауди никогда не было настоящих связей с мужчинами? Настоящих, повторяет она, тут же извиняясь за бестактность. Мауди пожимает плечами. Она и сама не знает. Она никогда не делала различия между мужчиной и женщиной. Для нее никогда не существовало чего-то исключительно определенного. Она на свой лад хотела любить всех людей сразу.