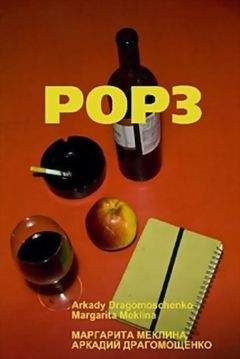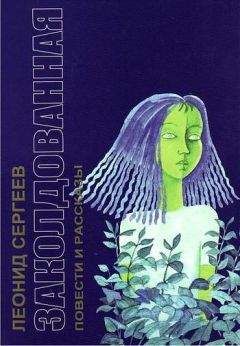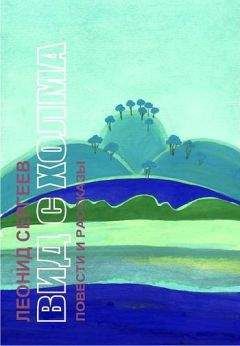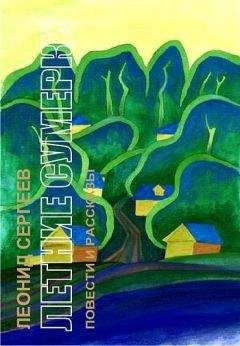Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 10 2004)
Метафизическая связь Толстого с “негибким” Чертковым оказалась достаточно гибкой, чтобы выдержать нагрузку семейной трагедией Толстых. “Я <…> несвободен от эгоизма личного, от эгоизма семейного, даже аристократического, и от патриотизма. Все эти эгоизмы живут во мне; но во мне есть сознание божественного закона, и это сознание держит в узде эти эгоизмы, так что я могу не служить им. И понемногу эгоизмы эти атрофируются”, — писал Толстой в дневнике (1904). Гибкость отношений Толстого и Черткова — одно из следствий нацеленности и того, и другого на подавление эгоизмов. Включая и эгоизм дружбы-любви. Можно оценивать по-разному их практические достижения, но то, что толстовский “параллелограмм нравственных сил” работал на полную загрузку в последние месяцы их дружбы, то есть в последние месяцы жизни Толстого, сомнений не вызывает. Муратов точно вычерчивает этот “параллелограмм”, прочитывая каждую строчку переписки, особенно оживившуюся в месяцы вынужденной разлуки, когда друзья сочли разумным не видеться в ответ на “неукротимую ненависть к Черткову” (дневник Толстого) Софьи Андреевны.
Черткову бедная Софья Андреевна приписывала роль злодея в финальной драме (не видя, что злодеев нет, а есть ее роковое несопереживание онтологии Толстого, и, стало быть, их случай — трагедия, онтологический тупик). Но роль Черткова была не подстрекателя, а единомышленника. Когда в невыносимой обстановке семейных раздоров Толстой судил себя повышенно строго, понятна его временная досада и на единомышленника. Муратов Черткова любит и потому особенно честен (можно ли иначе понимать любовь, пройдя школу-архив Черткова?), приводит весь “компромат” на Черткова в нашумевшем деле литературного завещания Толстого. Муратов не обрывает известную “античертковскую” дневниковую запись Толстого: “Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела и противна мне. Буду стараться любя (странно сказать, так я далек от этого) вести ее” — на первой фразе (как это делают иные толстоведы). Не передает ли вторая фраза ощущение Львом Николаевичем необходимости этой борьбы, несмотря на ее тяжесть и несмотря на то, что не он сам инициатор борьбы?
Так или иначе, вот как Л. Н. в одном из последних писем к Черткову уточняет свою проповедь непротивления злу насилием: “В последнее время „не мозгами, а боками”, как говорят крестьяне, дошел до того, что ясно понял границу между противлением — деланием зла за зло, и противлением — неуступанием в той своей деятельности, которую признаешь своим долгом перед совестью и Богом”. Душевные муки Толстого, доводившего “боками” свое учение до кондиции, некоторые его домашние, а вслед за ними и многочисленные доброхоты (среди которых — Горький, писавший имя Черткова с маленькой буквы и во множественном числе: “чертковы”) записали на Черткова в то время, как Лев Николаевич “записал” на него, ставя точки над i в деле авторских прав, лишь одобрение и благодарность за помощь — в преодолении семейного эгоизма. И еще — пронзительную нежность к другу: “Очень, очень хочется писать и именно художественное. И когда думаю об этом, то хочется еще и потому, что знаю, что это доставит вам удовольствие” (14 августа 1910 года). Из такой вот роскоши человеческого общения, из памяти о ней, помимо учения своего товарища, Владимир Григорьевич черпал силы для многих испытаний жизни, включая взваленный на себя труд издать в советской России полное собрание сочинений Льва Толстого. Из девяноста томов под редакцией В. Г. Черткова вышли семьдесят два.
Лиля ПАНН.
Нью-Йорк.
1 На не слишком популярный в России прагматический клич Кирилла Якимца прорубать “окно в Америку” (“Новый мир”, 2003, № 3) Валерий Сендеров при случае (рецензируя сборник “Человек между Царством и Империей” в № 2 “Нового мира” с. г.) откликнулся идеей благотворного взаимодополнения “неметафизической” Америки и “метафизической” России по аналогии с Англией и Шотландией конца XVII века. Что ж, “окно в Россию” прорубается в Америке как совершенно стихийно — в случае Скотта Мосса и в тысячах подобных случаев не один век уже, так и с осознанием этой миссии многими русскими эмигрантами, тем же главой издательства “Эрмитаж” (“Hermitage Publishers”) Игорем Ефимовым.
Освальд Шпенглер без поэзии
Освальд Шпенглер. Пессимизм? Сборник статей. М., Издательство “Крафт+”, 2003,
297 стр. (“Нить времен”).
Долгое время Шпенглер был одним из самых читаемых, самых обсуждаемых и популярных европейских мыслителей; но и по сей день его творчество остается во многом непонятым, оценки идей — обескураживающе превратными. Такая судьба, конечно, не исключительна; но специфические обстоятельства обусловили выдающуюся, даже на фоне других неоднозначных и сложных философов последних веков, невоспринимаемость читателями и критикой сейсмографа европейского заката. Главный труд Шпенглера — одна из тех книг, которые становятся единственными, решительно отодвигают в сторону остальное написанное автором. “Вон идет Закат Европы!” — перешептывались студенты за спиной гуляющего по набережной мыслителя; и, похоже, такое отношение к Шпенглеру сохраняется и по сей день. Но культура знает немало “авторов одного произведения”, по справедливости не являющихся таковыми.
“Природу нужно трактовать научно, об истории нужно писать стихи”. В начале XX века такие пассажи мало кто уже принимал буквально, всерьез; между тем эти слова автора “Заката...” — альфа его и омега, сокровенное кредо. Это не значит, разумеется, что Шпенглер не претендовал на абсолютную, непререкаемую точность начертанной им картины будущей европейской судьбы. Но точность эта — иная, она вовсе не точность расчисленного и выверенного логического трактата. “Закат Европы” уникальный пример “мышления словами” — образами-символами, сигналами, посылаемыми переживающим их автором в читательскую душу. Так определял суть шпенглеровской “философии” тонкий ее критик Федор Степун. Такое понимание, однако, было обречено на исключительность — в свой черед. В целом же о “Закате Европы” судили и судят как о продукте мышления, и только мышления, то есть по законам того жанра, к которому как раз и относятся отодвинутые “сигналом-предупреждением” далеко на задворки читательского интереса шпенглеровские статьи, представленные в нынешнем издании.
В советской России не обошлось и без специфических помех чтению этих статей. Оплошно изданные, они не были и изъяты: история книг и статей Шпенглера в СССР иллюстрирует многочисленные тонкие приемы изъятия литературы из сферы читательского интереса. Издания мыслителя в 20-е годы напоминают нам о небезосновательности известного тезиса насчет невиданной “свободе печати” в ленинской Совдепии. Уверенные в скорой мировой революции, большевики больше всего опасались влияния и идей “попутчиков”, бывших соратников-конкурентов. Реакционеров же и мракобесов не боялись порой издавать: вот до чего, дескать, дописалась под конец мировая буржуазия! Благо образованных марксистов, с ухмылкой обыгрывающих в предисловиях и комментариях тезис о деградации и гниении, тогда еще хватало. В итоге население могло до времени наслаждаться книгами о революции Деникина и Шульгина — но никак не Максима Горького, а Шпенглер был несравнимо доступнее Плеханова.
Да кое-чему можно ведь было поучиться и у реакционеров. “При чтении Шпенглера, несмотря на очень частое противоречие ему, мы сумеем все-таки очень и очень многое взять и получить от него. Важна ведь большею частью не истина, а ценно стремление к ней… Подводя общие итоги своей морфологии мировой истории, Шпенглер приходит к выводу, что мы переживаем момент апогея нашей цивилизации, которая к концу века, изжив себя, уступит место новой, имеющей надвинуться с Востока культуре. С Востока свет! Это звучит не страхом смерти, а призывом к новой жизни…” (Так сказано в предисловии к брошюре “Деньги и машина” — переводу заключительной главы второго тома “Заката Европы”. Сам том увидел свет в России лишь в 1998 году.) Итак, Шпенглер — провозвестник и глашатай восточно-мессианского коммунизма… За руку поймать трудно, почти это Шпенглер ведь действительно писал; разве что напомнить, насколько (по слову Шпенглера, сказанному в статье “Прусская идея и социализм”) “незначителен большевизм — эта кровавая карикатура на западные проблемы, когда-то возникшие из западной религиозности”. А что писал он и о будущей “России Достоевского”, так это слегка про другое…
Время шло. Мировая революция не состоялась, реакционеры и мракобесы смотрелись уже отнюдь не посмешищем, а ленинских диалектиков у государственного руля сменили твердокаменные сталинские тупицы. К 1934 году цивилизованные “бухаринские” издания и журналы были уже обращены в пыль, а в следующую пятилетку и самих цивилизованных фальсификаторов постигла та же участь. И место бы теперь Шпенглеру в лучшем случае за замками спецхранов. Но руки до него, видно, не дошли, и попал он в категорию литературы нежелательной, хоть прямо и не запрещенной. Карточки на нежелательные книги стояли лишь в немассовых, малодоступных неискушенному читателю библиотечных каталогах. Заказ их сопровождался различными трудностями, в выдаче отказывали под любыми предлогами. Например, под весьма невинным: “книга в переплете”. Шпенглера “переплетали” часто и подолгу, — но в перерывах можно ведь было его и получить. Главное же было совсем в другом — в твердой уверенности потенциальных читателей: заказав подобную книгу, сразу попадаешь “на карандаш”, покопавшись в картотеке, сам угодишь в картотеку . И опасения были небезосновательны: разгоны в элитарных учебных заведениях, связанные именно с библиотечной литературой, известны автору настоящих строк не понаслышке.