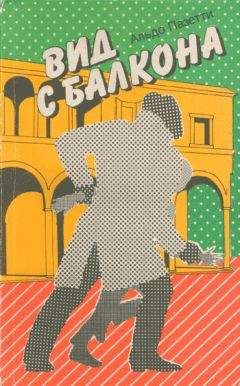Мария Голованивская - Пангея
Бургос, Леон. Когда же, когда?
Когда же этот путь превратится в волшебную нить, по которой можно будет проскочить в другое будущее? А может, все это старинная шуточка? Ватиканский анекдот — и ничего так и не случится?
На седьмой день на Даниила нахлынули воспоминания. Он пересматривал их все подряд, казалось, совершенно не управляя этим несущимся с бешеной скоростью потоком. Правая его нога была воспалена, мозоли гноились, по щиколотке разливалось сильное жжение. Он шел осторожно, не снижая скорости, ступал, словно по жердочке, по спасательному мостику, мысленно проложенному между Сциллой и Харибдой. Сциллой была пятка, Харибдой — волдыри на щиколотке.
Вот он отчетливо видел крошечные конусообразные кофейные чашечки, все разные — разных цветов и с разным узором, их ему подарила Таточка, Мартина мать. Вот лицо Джоконды — странное имя для некрасивой пожилой женщины, с крупной родинкой под носом, кажется, будто у нее всегда там невытертая козюля, вот Мышьяк кашляет у него в родительской квартире, а он, как салага, как беспородный щенок, лижет ему руку. Вот он стучит мрачному мужчине в штатском на Мышьяка, врет, что тот предлагал ему купить наркотики.
А вот бледное лицо Мышьяка, которое он после этого много раз видел во сне.
Он вспоминал свое детство в закрытом подмосковном поселке с вымощенными плиткой улицами и фонарями с плафонами под старину, поселковый клуб, разноцветные флажки к 1 Мая, огромную елку, всю в переливающихся лампочках перед правлением поселка под Новый год. Он помнил запах антоновки, лежащей горой на уже стынущей закрытой веранде, тяжелую тоску ноябрьских вечеров, уют школьных ламп под потолком, пучок первой учительницы.
В этой реке воспоминаний на него то и дело наплывали разные лица — вот взъерошенный Кир наставляет его на путь истинный, говорит ему: «А знаете ли, молодой человек, вы отнюдь не бесталанны, вы очень даже нам нужны», а вот Голощапов, длинное лошадиное лицо Голощапова с маленькими черными глазками, криво улыбающееся ему на редколлегии вновь созданного телеканала, руководителем которого он его назначил.
Среди этих воспоминаний к нему явилось ощущение его первого жара в его самый первый в жизни грипп, ему года три, и летний надувной матрас на шкафу кажется ему крокодилом, а плед на кресле сползает огромной черепахой на пол.
Он отплыл в сторону от воспоминаний только вечером, когда все уселись ужинать в очередной паломнической гостиничке. На тесаном деревянном столе он обнаружил помимо обычной для паломников трапезы несколько копченых свиных ног, огромные мутно-зеленые бутыли с вином, сидром и пивом, умело приготовленные косячки с марихуаной, он обнаружил, что все женщины, включая венгерок, разоделись и накрасились, пачкали помадой сигаретные фильтры, откуда-то взявшиеся бокалы для вина.
Напились, блевали, орали, сношались, как животные, здесь же, в общей комнате, и Даниил пил и орал, заходился от смазанной помады венгерочки, шел на подвиги и рекорды. Он рухнул в эту оргию сразу, даже не успев задать свой коронный вопрос: «Господа, а что это все вообще означает?»
Мерзости продолжались целую неделю. Измученная оргиями группа еле плелась и проходила всего по несколько километров в день. Поздняя летняя ночь каждый раз заставала их в свальных и содомитских усладах, ворующими друг у друга деньги и спиртное, втихаря гадящими мимо унитазов в общественных уборных. Они улюлюкали и свистели вслед обгонявшим их паломникам — те смотрели почему-то грустно, сочувствующе. К концу третьего дня разложения Даниил отметил, когда их обгоняла очередная группа паломников, что и те были не слишком трезвы и бодры, ну да, лица измяты и речи неблагонравны. «Мы всегда были сбродом или превратились в него на этом пути?» — спросил себя Даниил, уставившись на галку, чинно восседавшую на нижней ветке столетнего дуба. — «Вы все в середине пути превращаетесь в мразей, — весело прочертила она хвостом в воздухе, — уж мы-то тут такого навидались!»
Как выяснилось потом, в минуту покаяния, наступившую в самом конце пути, на пол принципиально гадил Фиш. Он же сморкался мимо умывальника и нарочно бросал остатки еды под стол. Вдобавок к этому на стихийном покаянии выяснилось, что всю жизнь он страшно изводил свою приемную дочь, нет, нет, он не домогался ее сексуально, не размахивал перед ней пипиской, но нарочно драл ее мать так, чтобы она могла что-то увидеть или услышать. Монах Джакомо каждую ночь на привалах предавался оргиям с малолетними проститутками, которых легко можно было найти в округе за совсем скромные деньги. На покаянии он признался, что самой младшей из его любовниц было шесть лет. Это было давно, но не важно, было ведь.
Дэвид Минч признался, что, обкурившись травы, он обворовал добрую половину группы, на следующий день убедив всех, что это сделал румын.
Украинская колдунья — и в этом признаваться было не нужно — по ночам предавалась групповым сношениям, доставая из походного мешка образа и расставляя их по всем углам, чтобы «они видели».
Мюриэль и Анри нашли еще одну пару французов и, движимые алкогольными парами, залезли в два дома неподалеку от паломнической гостиницы и даже не обворовали их, а просто надругались, насрав на кружевные накидки и измазав калом портреты.
Кшиштоф Бенецкий, оказывается, написал пачку доносов и в последний вечер заклятой недели отправил их в службу безопасности Польской Республики. В доносах он оклеветал всех своих конкурентов, заложил чиновников, которые брали у него взятки, и раскритиковал правительство так, что, кажется, обратной дороги ему не было.
Мигель Лос Мигас подманивал кошек, которые в изобилии водились на паломнических стоянках, и издевался над ними, как правило, заканчивая свои экзерсисы жестоким удушением.
Нур танцевала голая на мостовых.
И только румынский убийца ничего не делал, а лишь протяжно пьяно мычал, поскольку никакого занятия придумать себе не мог.
Даниил позвонил Марте и признался во всех изменах, даже в тех, которых на самом деле не было. Он наговорил ей много страшных и несправедливых слов, и когда она расплакалась, он почувствовал счастье впервые за несколько последних лет.
Когда страшная неделя закончилась, каждый из них ощутил себя полностью опустошенным, и так, в полном молчании, загорелые, иссохшие, с грязью под ногтями, со слезающей с лица, плеч, рук и ног кожей он взошли в Сантьяго-де-Компостелу, поднялись по французской улице к храму, и, как и все паломники, пришедшие сюда с разных сторон по разным улицам, упали в изнеможении на площади, стараясь повернуться макушкой в сторону алтаря. Они лежали так в вонючей толпе себе подобных, слушали гул внутренней пустоты, свое дыхание, шум колотящегося сердца, сливающийся со звоном колоколов.
Святой Иаков, чьей волшебной силой питаются эти места, был сыном Зеведея и Саломеи. Иисус его и брата его Иоанна нарек обоих Ораторами, Сыновьями Грома: так мощно они проповедовали свою веру. Иаков видел, как распяли Христа, но не остановился после этого и продолжил яростно проповедовать Христову веру. Самого его обезглавили по велению царя Ирода Агриппы I, впрочем, некоторые убеждены, что голова его потом чудесным образом приросла обратно и что это чудо он сотворил для себя сам уже после своей смерти.
КОНОН-МЛАДШИЙ И МАРГАРИТА
Это был год, когда ведьмы рождались и росли как грибы. Они ядовито командовали и хозяйничали, управляли и доводили до ума, они сооружали башни из рыбьих костей и разводили в них летучих мышей, глаза их блестели, алые губы змеились приторными ароматными улыбками, они верстали несбыточные планы, писали в столбик худосочные цифры с ошеломительным количество нулей, изгоняли разумный дух из многокилометровых затхлых коридоров, совращали невинные души на погибель одним только хрустящим фантиком злокачественно распухающих вымыслов, когда распускались белые цветы во всех садах и когда все их деяния давали великие плоды — пустой, но по-своему завораживающе прекрасный звук — зууууууууууууу.
Потому ли они так быстро росли, фиолетовые, коричневые, оранжевые, с перламутровым отливом в волосах, что зима в тот год была особенно снежной? И наступила она, как положено, в черном совсем ноябре, закидав белыми хлопьями и комковатую землю, и еще живую жижу, и черные, пахнущие гарью небеса? Не эти ли ноябрьские небеса породили их вместе с мокротным кашлем, буро-зеленой гайморитной слизью, урчанием в переполненных животах, забитых до отказа взопрелой едой? Потому ли, что в ту зиму Пангея стояла белым-бела, и метель шлифовала ее неровные бока, и надрывно ревущий ветер до одури заморачивал голову каждому, кто еле шевелился крошечной черной точкой на фоне необъятной пангейской зимы и не мог уже смотреть по сторонам сквозь этот снег, не мог видеть их ведьмовского подспудного шевеления.