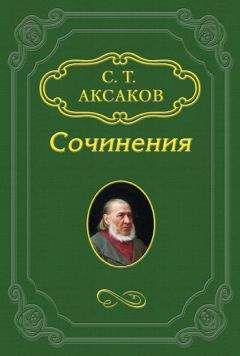Джузеппе Маротта - Золото Неаполя: Рассказы
Вы поняли? Не исключено, что я воспользуюсь световой рекламой еще и для того, чтобы передавать свои стишки и рассказы, по мере того как они будут у меня появляться. Это будет как бы каждодневная исповедь, и я вытряхну свой мешок до самого дна. В начале своего повествования я уже намекал на то, о чем собираюсь сейчас сказать (помните «данный момент», на который я вас просил обратить внимание?). Так вот, после того как я полностью исчерпаюсь, я уступлю свою бесплотную доску всякому, кто захочет последовать моему примеру. Любой сможет располагать ею, лишь бы нашлись у него печаль, надежда, обида, сон, истина, ложь, страх и ярость, от которых ему хотелось бы избавиться или которые ему, наоборот, хотелось бы закрепить. Ведь и через наше сердце непрерывно текут такие же сверкающие буквы, которых просто никто не видит, — текут и складываются в слова — значительные и пустые, злые и нежные, но сразу же исчезающие, так что мы даже не успеваем отдать себе в них отчет! Так давайте же выведем их наружу и прочитаем. Нет, не случайно я разбогатею именно в Милане, а не где-нибудь еще!
Я был здесь счастлив и несчастлив ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы задуматься наконец над следующей проблемой: как может моя страна заключать договоры о дружбе с какой-нибудь Северной Тивонией, если я не знаю даже, кто такой и о чем думает мой сосед по дому или человек, который сидит рядом со мной в автобусе? Миланцы, давайте откроем новую эру в человеческих отношениях: настанет вечер, и каждый придет на площадь к моей доске, чтобы защищаться и обвинять, рассказать о себе и себя показать, для того чтобы действительно быть вместе со всеми.
Измученный город
Июль терзает Милан, нашу северную столицу, он ненавидит ее и любит, он не уверен в ней, в этом все дело; он тиранит ее, потому что слишком трудно она ему досталась. «Ну поверь же, я твоя», — говорит она ему, задыхаясь, но он, следя краем глаза за проспектом Семпионе (только оттуда могут появиться первые осенние листья), грубо ее обнимает и отвечает: «Да, дорогая, да, ну скажи же, скажи, как меня зовут?» — он весь горит, он бредит, он обезумел.
На рассвете на пригородных лужайках кузнечики, пропустившие последний автобус ночного ветерка, с которым еще можно было скрыться, переворачиваются на спину и испускают дух; черные комочки в серой траве, на которые чуть позже будут наступать прохожие, — это их обуглившиеся тела. Итак, солнце сейчас сделает свой очередной выход; на фасадах домов написано драматическое ожидание — так негашеная известь ждет штукатура, который вольет в нее воду, и на ее поверхности (о, мучительная агония) станут вспухать и опадать сотни белых горлышек; на крышах домов тут и там лежит по облачку правильной геометрической формы, как будто серийного выпуска, но с минуты на минуту они растают; из маленького кафе в переулке выходит официант с плетеным столиком, который он несет, как щит: четыре шага — и он уже пошатнулся… Да, дружище, ты не тот гладиатор, который может вступить в открытый бой с миланским июлем.
Нас будит наш собственный запах, здоровый и неотступный, которым пропитана влажная подушка. Куда делось одеяло, куда делись мысли, куда делось время? Где имя, где привычный вид каждой вещи? Тело кота расплывается на ковре, потолок ходит волнами, темнота сворачивается и тает, фитиль, от которого вот-вот вспыхнут краски на картинах, уже подожжен, шуршат обои, скрипит пол в коридоре, и мы ясно представляем себе, как нависло сейчас над городом и над всем миром то мутное и плотное небо, каким в Неаполе завершается обычно ночь Пьедигротты. Надо выйти как можно раньше, воздух в комнатах давит на плечи, как курящийся паром халат, и каждый предмет взывает о помощи, которую мы не в силах ему оказать: увидев на полочке в ванной сухой жесткий остроконечный ус монгольского раба, я испытываю угрызения совести — неужели это она, моя кисточка для бритья? Но вот я выхожу, наконец-то я выхожу — мне нужен глоток, хоть малая толика воздуха. Швейцар на лестнице делает движения человека, который моет пол: он окунает тряпку в ведро, полощет ее, вынимает, шлепает на площадку, но где там — она уже сухая! Почтовые ящики распахнуты настежь, и я одобряю эту попытку предупредить пожар — он может вспыхнуть в любой момент, стоит только загореться открыткам, которые шлют из Рапалло, Стрезы, с острова Искья находящиеся там на отдыхе дамы; некоторые письма свернулись в трубочку, и я представляю себе, как получатель долго и нежно разглаживает их о свою горящую щеку, которой так не хватает сейчас Эдвидж или Паолины.
Милан продолжает трудиться, но нельзя не заметить, что под воздействием июля труды эти смотрятся несколько иначе, чем раньше. Это выглядит особенно очевидно и забавно здесь, на окраине, откуда уже близко деревня.
При любом, даже самом слабом звуке на стене, окружающей маленький заводик, возникает пунктир лихорадочных бросков ящерицы, напоминающий буквы на рекламных плакатах, до которых так падки политики и спортивные чемпионы; по заводскому двору разлит насыщенный свет гумна, и кажется, что рабочие сейчас усядутся на землю и начнут грызть зубчатую передачу или просеивать в решете железные опилки; из каждой щели в куче сваленного во дворе железного лома торчит зеленое сверло: это отважные, воинственные, свирепые стебли, командос растительного мира, которые молниеносно прорывают внешнюю линию обороны Милана. Внимание, внимание, они здесь: трава в стыках трамвайных рельсов, зовите пожарных! Продавец газет, трава в твоем киоске! Бакалейщик, трава пошла на тебя приступом и победила: в твоем имени на вывеске уже нельзя прочитать одну букву! Неужели мы разбиты, неужели мы отступаем по всему фронту? Меня охватывает паника, мне кажется, что трава повсюду, может быть, она и на мне; а вон, вон — скажите мне, что это галлюцинация! — вон метелка травы на крыше такси!
Июль стер своей губкой часть миланской толпы: даже в самом центре, в безумном своем центре Милан стал неузнаваемым, новым. Чтобы перейти улицу, вам уже не надо искать пращу, которая метнула бы вас на другую сторону. Если вы сумеете не обращать внимания на Гейбла и Кроуфорд,[49] которые обнимаются на десятках гигантских киноафиш, часа эдак в два пополудни вы сможете побыть в относительном одиночестве на площади Миссори или Криспи. Я своими глазами видел, как сделались в эти часы бескрайними и пустынными просторы площади Сан-Бабила, на которой, в самом центре, остались всего лишь две фигурки, черная и белая: регулировщик, который перелистывал путеводитель, и священник, который ждал его разъяснений; черный и белый человечки казались фигурками на шахматной доске — последний, решающий ход в какой-то сложной партии. Хотя нет, я ошибаюсь, был там еще продавец цветов, почти потерявший сознание под своим зонтом, а еще там было столько Маротт, сколько летних месяцев провел я в Милане с 1925 года по сегодняшний день: порассказали же они мне историй в эти нескончаемые часы!
Вот 1925 год: я зарабатываю у Мондадори[50] триста лир в месяц и помолвлен с девушкой, которая каждый вечер ждет меня в Монце; у меня нет денег, чтобы хватило и на трамвайный билет, и на ужин, и потому я либо ужинаю, либо предаюсь любви. Свидание у канала Виллорези всегда начиналось со свертка, который Ольга, добрая душа, приносила с собой — хлеб с ветчиной, хлеб с поцелуями, хлеб со звездами, хлеб с сияющей перламутровой травой, которую взад и вперед таскают на себе светлячки. Я возвращался домой последним трамваем, который тогда ходил до собора; город продолжал пылать, хотя и без дыма, пустынный, решительный, сильный, каким он всегда был и будет в июльские ночи. В баре для полуночников я часто встречал демона, то есть несчастного Синопико с его печальным диковатым взглядом и остроконечной бородкой, которая, казалось, вот-вот вас пробуравит; смех у него был как молния, как бритва, неожиданно блеснувшая в зеркале, и, глядя на него, я всегда думал: вот человек, который разжигает миланское лето.
А вот июль некоторое время спустя: мы с бедным Чезаре Альфетрой ходим взад и вперед по улице Сант-Андреа и орем; мы совсем потеряли голову и доказываем друг другу (каждый из нас влюблен и держит приятеля в курсе своих дел, вот, собственно, и все), что женщины сделались женщинами, потому что они не заслужили того, чтобы стать мужчинами. Помню, как настала минута, когда уже просто нечем стало дышать — улица Сант-Андреа превратилась в раскаленную печную трубу, — и мы смотрели друг на друга, как два водолаза, как будто сквозь стекло, и я так и вижу сейчас тебя, Чезаре, сквозь эту дымку, которая потом, когда ты умер, превратилась в слезы.
Сколько незаменимых друзей уже никогда не вернет мне миланский июль! Вот, к примеру, ранний вечер, и мы, человека четыре-три, сидим у Эдуардо Моттини. По-моему, он жил на улице Бергамо, но я помню только клавиатуру рояля, по которой летали его пальцы, желтые от никотина и от такой же, как никотин, разъедающей обиды на жизнь. Моттини играл Баха, а я, Альдо Габриэли, художник Казоларо и еще кто-то, склонив головы и зажав руки в коленях, уносились из раскаленной, словно печь, комнаты туда, куда звали нас эти звуки, куда Моттини хотел нас перенести.