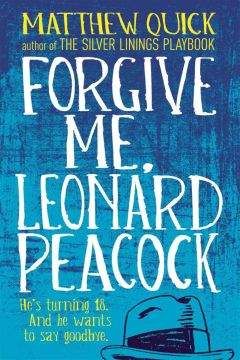Александр Проханов - Матрица войны
– Я дала согласие, – сказала Даша. – Ведь ты говорил мне, что хотел бы видеть меня на портрете. Большой портрет для Натана, для его венской выставки. А миниатюру для тебя, для твоего медальона. Вы сделаете миниатюрную копию для моего генерала, Натан?
– О да, миниатюрную копию для генерала! – усмехнулся рыжеволосый художник.
Белосельцев остро, ненавидяще, поражаясь своему злому чувству, взглянул в упор на близкое, в рыжих веснушках, с рыжими жирными бакенбардами и вихрами лицо. Странным образом оно напоминало бычью голову, укрепленную на стене, – такое же крупное, с жестким загривком, с коротким влажным носом, вывернутыми, жарко дышащими ноздрями, которыми он, казалось, обнюхивает Дашу. Пускает в нее горячие струи воздуха, распираемый душной, набрякшей силой, липкой слюной, клокочущей перламутровой слизью. Даша заметила его отвращение, но оно не огорчило, а развеселило ее.
– Не правда ли, – обратилась она к Белосельцеву, снова сжимая ему руку быстрыми горячими пальцами, – Натан похож на вавилонского быка, только кольца в ноздрях не хватает… Натан, это платье подарил мне мой генерал. Не правда ли, оно мне идет! – Она отступила на шаг, медленно, плавно поворачиваясь. И художник, пока она поворачивалась, оглядывал ее с ног до головы жадными выпуклыми бледно-голубыми глазами, расширял большие, красноватые от обильной крови ноздри, словно вдыхал запахи, исходящие от ее волос, обнаженных плеч, стянутых тканью бедер.
Сквозь людское скопище к ним подошла невысокая изящная женщина со следами начавшегося увядания, которое она стремилась восполнить обилием серебра на запястьях, в ушах и на пальцах, глубоким вырезом юбки и обильным, смело положенным гримом, от чего глаза ее казались ромбическими, словно карточная масть бубей, но не красная, а залитая мерцающим беспокойным блеском. По сходству с Дашей Белосельцев понял, что это Джулия, ее мама, чей голос он несколько раз слышал по телефону.
– Это Виктор Андреевич, – радостно представляла Белосельцева Даша. – Я хотела, чтобы вы познакомились и друг другу понравились.
– По-моему, мы понравились друг другу еще до знакомства. У вас очень приятный голос, – сказала Джулия, поднимая тонкие, прочерченные тушью брови, под которыми ромбовидные глаза воззрились на Белосельцева насмешливо и испытующе. – Девушкам в Дашином возрасте свойственно обзаводиться кумирами. Это может быть актер, или знаменитый художник, или боевой генерал. Помню, у меня был кумиром молодой Караченцов. Следовала за ним по пятам, проходу ему не давала. А потом вдруг в минуту забыла. Ах эти легкомысленные девичьи души!
Белосельцев чувствовал исходящие от нее невидимые длинные иглы, как колкие лучи хризантемы, которые не жалили, а лишь остро щекотали, ощупывали его. Он вдруг вспомнил, что Даша называла мать колдуньей. Почувствовал в этих прикосновениях болезненную энергию, родовое, гулявшее в их крови безумие, которое он воспринимал как болезнь.
– Даша, пойди помоги мне! – сказала дочери Джулия. – Развлеки нашего критика Медиано, он раскапризничался и хочет уйти. Очаруй его, как ты это умеешь. Нам нужна его публикация!
Деланно улыбнувшись Белосельцеву, она увела Дашу. Ее появление, ромбовидные, наполненные болезненным блеском глаза и то, как она использовала Дашу, ее привлекательность и общительность, среди этих капризных, многозначительных и изломанных людей, больно задело Белосельцева. Ему стало страшно за нее, за себя. Захотелось немедленно увести ее – на воздух, в темнеющие арбатские переулки. Выбрать какое-нибудь милое нелюдное кафе. Сидеть с ней за столиком под деревом, в котором горит зеленый, окруженный листвой фонарь. Пить вино, рассказывая ей о своих странствиях, сжимая ее послушные длинные пальцы. Но Даши не было. Постояв с минуту подле рыжего, похожего на курчавого бизона художника, Белосельцев отошел, двигаясь в разношерстной толпе.
Публики было много, и казалось, она неуправляемо и хаотически движется, переходит с места на место. Но на самом деле она перемещалась среди нескольких неподвижных центров, которые, как ядра притяжения, влекли к себе посетителей, создавали поле внимания.
В центре одного такого поля находился известный и когда-то очень модный поэт, чьи поэмы казались верхом политической смелости и поэтического откровения. С тех пор поэт поблек, ушел в выхолощенные поэтические эксперименты, время от времени осторожно, с гарантированной для себя выгодой и безопасностью поддерживая власть.
В центре другого круга пребывал эксцентричный знаменитый политик, лидер партии, которая пользовалась устойчивой поддержкой у психически неустойчивых избирателей, у экзальтированных надрывных патриотов, у женщин с душевными расстройствами, тяготеющими к спиритизму, и у той группы населения, которая находит себя в однополой любви. Политик говорил очень громко, магнетически притягивая к себе резким смехом, странными, неприятными жестами.
Тут было много молодых лысых женщин, чьи белые выскобленные черепа были как огромные птичьи яйца, делали их похожими на инопланетян. Хрустящие пластмассовые оболочки, крупные пластмассовые браслеты и серьги придавали им сходство с большими гибкими насекомыми, чьи ножки и усики соприкасались, ласкали и ощупывали друг друга, выделяя клейкие ароматические капельки.
Здесь можно было заметить дипломатов с темными бородками, в очках, говоривших на средиземноморских языках, знающих толк в русском постмодерне, вносивших в вернисаж дух мирового эстетизма. Все общество художников, критиков, поклонников искусств напоминало живой кишащий планктон, состоящий из сине-зеленых водорослей, мельчайших рачков и креветок, светящихся фосфором моллюсков, среди которых двигались разнообразные рыбы с узорными плавниками, резными хвостами, выпученными телескопическими глазами. Рыбы питались планктоном, но планктона не становилось меньше, он льнул к рыбам, которые медленно плыли, оставляя в густом бульоне светящийся след.
И конечно, в самом центре внимания находился устроитель инсталляции, именитый художник, лукавый плут с хитрыми, веселыми глазками, лысоватый, с седыми пейсами, проворный, подвижный, в бархатном малиновом камзоле, с пышным кружевным жабо, похожий на придворного горбуна, чьи злые шутки приходилось терпеть из-за августейшего благоволения к шуту.
И все это озарялось блицами, освещалось телевизионными лампами, во все это просовывалась любопытствующая телевизионная камера, посылала добытые впечатления в змеящийся жирный кабель, утекавший на улицу.
Белосельцеву было плохо. Все здесь были больны. Ему казалось, что на хорах, за гардинами, притаились врачи в белых шапочках, санитары в халатах приготовили долгополые, с длинными рукавами рубахи, бинты и веревки. Кинутся на собравшихся, станут валить, пеленать, за руки за ноги вытащат на улицы, где с сиренами и мигалками начнут подъезжать кареты «Скорой помощи».
Он хотел найти Дашу, хотел ее увести. Она мелькнула на другом конце зала, смеющаяся, прелестная, окруженная внимавшими ей мужчинами. Белосельцев кинулся к ней, пробираясь в толпе. Но дорогу ему преградил тучный, круглобокий, как кит, человек в холщовом просторном сюртуке, курчавая голова которого была выстрижена голыми бороздками, и в ухе качался золоченый паук. Даша исчезла. Он выглядывал ее, обходил толпу. Увидел ее за колонной, подымавшую с кем-то пластмассовые винные стаканчики. Бросился к ней. Но натолкнулся на двух гибких, как обезьяны, женщин с голыми, до самого крестца, спинами, которые курили одинаковые длинные сигареты и бритые головы которых были выкрашены в ядовитые синий и красный цвета. Женщины не сразу его пропустили, окружив запахом странных духов, похожих на горькую плесень. Когда он пробился к колонне, Даши там не было, только два подвыпивших журналиста негромко смеялись и матерились.
В третий раз он увидел ее совсем близко. Она внимательно на него смотрела. Он заторопился к ней, делая на ходу умоляющие жесты. Но она резко, гибко отвернулась, качнулась в сторону, и там, куда она откачнулась, возникла рыжая шевелюра, набрякший бизоний затылок, выпуклые яркие глаза художника, похожего на вавилонского курчавого быка. «Похищение Европы», – беспомощно подумал Белосельцев, испытав приступ дурноты, похожее на обморок предчувствие. Кинулся было к дверям, но двери захлопнулись, в них громко провернулся снаружи ключ. В зале заиграла странная музыка, напоминавшая сиплые вздохи, стук сердца, урчание желудка, икоту. Висевшие на стене обвислые пленки стали шевелиться, колебаться, как ткань воздушного шара, в который поступает газ. Взбухали, пенились, выдавливались из стены в зал. Люди, шумно восклицая, отступали от них. Пузырей становилось все больше и больше, словно стена вскипала, превращалась в клокочущую грязную пену. Огромные легкие, наполненные воздухом, поступавшим сквозь сиплые трахеи, надвигались на людей, теснили их. Те со смехом, но и со страхом плотно сбивались, а пузыри доставали их, обхватывали и облегали колонны, заполняли пространство под потолком, поглощали люстры. И вот уже завизжала какая-то женщина, затянутая в зыбкую глубину пузырей. Начал брыкаться, взмахивать руками какой-то перепуганный старичок, которого проглатывало зыбкое воздушное месиво. Веселье и изумление толпы сменилось ужасом. Все жались по углам, прятались за колонны, пытались выломать двери. Но их везде находили пузыри, сдавливали, лепили глаза, заклеивали лица. Вся толпа оказалась в огромной пенистой слюне, истекавшей из чьего-то бездонного рта.