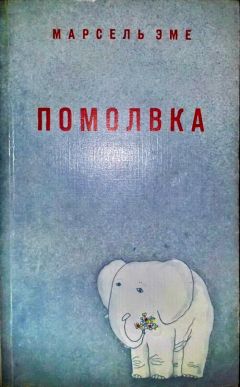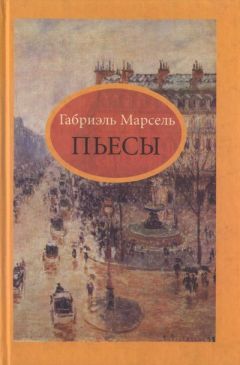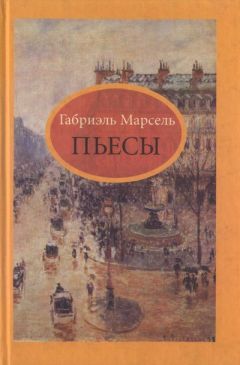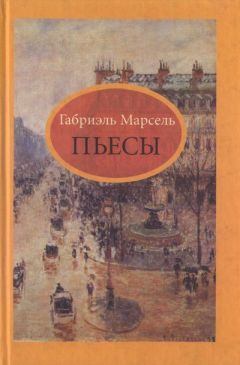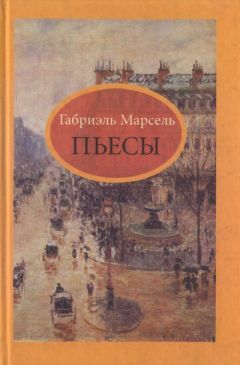Нодар Джин - Учитель (Евангелие от Иосифа)
— Всё равно предательница, — рассудил я.
— Она просто не поддалась речи.
— Какой речи?
— В которой начальник еврейского гарнизона уговорил всех кончить самоубийством.
— Уговорил? — снова удивился я. — Евреев? Их невозможно уговорить. Порождают Иисуса и Маркса, но сами за ними не идут!
Ёсик улыбнулся:
— Евреи — хорошие ораторы, товарищ Сталин.
— Знаю, — буркнул я. — Но главное в ораторстве не красота слога, а то, чтобы сказать правду…
— А этот начальник сказал такое, о чём никто пока не знает — правда это или нет.
— Троцкий играл именно на этом…
— Он произнёс хорошую речь…
— Троцкий?
— Начальник гарнизона.
— А почему та баба не поддалась?
— Детей, наверно, любила больше, чем себя…
Я ухмыльнулся.
— А начальник сказал сперва, что с тех пор, как люди научились размышлять и вплоть до наших дней, — все, мол, включая наших великих предков, только и твердят, что жизнь, а не смерть, есть источник несчастий. Ибо смерть освобождает наши души и позволяет им возвратиться туда, где несчастий нет.
Я снова ухмыльнулся.
— Этот начальник, — продолжил Ёсик, — сказал потом, что союз души и тела, небесного и земного, уродлив. И неестествен. Хотя даже в теле, даже запертая в нём, душа способна на многое. Она обращает его в орган своего осязания и помогает земному познать кое-что из того, на что оно не способно. Обретя же свободу от тела, душа возвращается в своё царство. Непостижимое на земле. И с земли незримое, как — Господь…
— А при чём это? — оборвал я Ёсика, но он не послушался:
— И этот начальник закончил речь призывом встретить смерть, как встречает её непорабощённая плотью душа. Радостно. Ибо того хочет Закон…
— При чём это всё? — повторил я с раздражением. — При чём эти евреи?
— Как «при чём»? — удивился и Ёсик. — Иисус, товарищ Сталин, тоже был еврей, а во-вторых…
— «Тоже» — как кто? — остановил его я.
— Как те, в Масаде.
— А при чём, говорю, вся эта Масада?
— Я как раз начал говорить… Я сказал «во-вторых», но вы прервали… А во-вторых, Иисус был одним из тех, кто защищал Масаду и совершил самоубийство…
— Так значит, этот начальник в Масаде и был Иисус?
— Нет, того звали Элеазар…
— Неужели Иисус и там не стал начальником? — удивился я и посмотрел Ёсику в глаза.
Они были печальней, чем когда я пожал ему руку при знакомстве. Прошло какое-то время. Паузу в этот раз прервал я:
— Майор! Вы сказали «прошло какое-то время». После падения Иерусалима и до падения Масады. До краха надежды. Когда «Новый Иерусалим» перекочевал на небо… Сколько же именно прошло времени? Сколько ещё Учитель прожил после Иерусалима?
— Четыре года. Масада пала в 74-м году…
— Ещё четыре года? — повторил я.
— Ещё четыре года, — кивнул Ёсик.
— Четыре года — небольшой срок, — рассудил я после новой паузы. — Сегодня у нас, если забыть о глупостях, идёт 1949-й. Через четыре года… будет 1953-й… Малый срок…
Ёсик смотрел не на меня. На свою правую кисть. Которую — заметив мой взгляд — тотчас же укрыл в левой.
Я решил отпустить майора и поднялся с места. Поднялся и он.
— Ар брундеба! (Не возвращается!) — сказал я о Лаврентии.
— Диах, ар брундеба! (Так точно, не возвращается!)
— Шен дабрунди машин. (Возвращайся тогда сам.)
Он кивнул и направился к двери.
— Иосеб! (Иосиф!) — придержал я его.
— Иосеб? (Иосиф?) — обрадовался он.
— Гцхениа? Гинда — Иосе дагидзахо? (Что, оскорбился? Хочешь — буду звать Иисусом?)
— Ёсика дамидзахет! (Зовите Ёсиком!)
— А Лаврентий знает об этом?
— Об Армагеддоне? — спросил он.
— И об Армагеддоне, и о Масаде. О том, что между ними прошло лишь четыре года.
— Не думаю! — и вышел.
Я забрал Библию со столика, шагнул к полке, вернул книгу на место, перед Булгаковым, и вскинул глаза на Надю.
— Ещё четыре года! — сказал я ей и направился в гостиную.
94. Говорит без желания что-нибудь сказать…
Услышав за дверью голос Ворошилова, я спохватился и вернулся в комнату. Климент Ефремович, по-видимому, увлёкся тостами за победы, а теперь уже — чего я терпеть в нём не мог — пел о них пьяным голосом. Причём, о тех победах, к которым прямого отношения не имел:
Ехал я из Берлина по дороге прямой
На попутных машинах, ехал с фронта домой.
Ехал мимо Варшавы, ехал мимо Орла, —
Там, где русская слава все тропинки прошла-а-а…
Трезвый Ворошилов пел неплохо. Был певчим в церкви. Подобно мне. И Молотову. Но подпевал не он. Подпевали Булганин — по служебной обязанности министра обороны, Хрущёв — по душевной весёлости хохольского везунчика, и ещё кто-то.
Наверняка не Берия, который Ворошилова называл почти по Иоанну, — «красным всадником без головы». И подпевать ему не стал бы.
Ты встреча-ай, с победой поздравля-а-ай,
Милыми рука-ами покрепче обнима-а-ай…
— Эх, Ефремович, Ефремович! — проговорил я невслух. — Таким, как ты, от всего хорошо! Даже от чужих побед!
Вслед за словом «Ефремович» я вспомнил, что уже третий месяц не раскрываю записку, которую он — хотя никого рядом не было — передал мне с шёпотом: «Коба! Это про меня, Ефремовича, и про Берия! Из Библии!»
Записку я положил в ящик не раскрывая: между автором, Берия и «из Библии» не может быть общего. Теперь, однако, — по горячим следам того, что «из Библии», и что всё в ней связано со всем повсюду, — я прошёл к столу и открыл ящик.
В записке оказалось лишь одно слово — остальное цифры: «1 Паралипоменон, 7:22–23.»
— Что?! — спросил я вслух, но Ворошилов не ответил. Продолжал, видимо, петь.
Пришлось справиться у Библии. Снова шагнул к ней, раскрыл на указанной цифре — и обомлел:
«И плакал о детях Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошёл к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарёк ему имя — Берия, то есть „в несчастье“. Ибо несчастье постигло дом его.»
Я опустился в кресло за столом: что Климент хочет этим сказать? Что Берия тоже еврей? И если да, то «тоже» — как кто? Или что Берия — знамение «несчастья»? Или что он, Климент, с Лаврентием братья? Или — ничего не хочет сказать? Просто — говорит без желания сказать…
Что вообще люди хотят сказать? Тот же Ёсик, например? Может ли быть, что он «тоже» говорил без желания сказать?
Я поднял трубку:
— Орлов! Соедини меня…
— Слушаю, Иосиф Виссарионович!
— Соедини меня… С этим…
— Слушаю, Иосиф Виссарионович!
— Соедини меня… — «с кем?» спросил я себя и добавил. — Соедини, например, с писателем Леоновым!
— Прямо сейчас?
— Да, прямо соедини! А как ещё — криво?
Орлов извинился и начал шебуршать бумагами.
Я вернул взгляд на Надю. Потом — на яблоню за дверью.
Потом — на собственные усы под ногами. Через пару минут Орлов заговорил:
— Товарищ Леонов? С вами говорят от товарища Сталина! Поговорите с ним!
— С товарищем Сталиным? — испугался писатель.
— Здравствуйте, товарищ Леонов, — произнёс я. — Извините, что поздно, но звоню поблагодарить вас за хорошую речь в театре…
— Товарищ Сталин! — воскликнул Леонов, как восклицают: «Господи!»
— Хорошую речь, — продолжил я. — И что вы хотели сказать?
— Как что? — снова испугался он. — Только то, что сказал!
— А именно?
— Что настало время считать время по-новому… От вашего рождения…
— А что делать с Христом? С Иисусом?
После трескучей паузы Леонов признался:
— Товарищ Сталин, я — по правде — не готов к этому вопросу…
— Это нехорошо. Тем более, что однажды, 14 лет назад, вы тоже не были готовы к такому вопросу. О том же Христе… У меня дома… Помните?
— Конечно, помню, товарищ Сталин!
— А вот это хорошо — что помните. Я с вами позже ещё раз свяжусь. Подготовьтесь к вопросу.
— Обязательно, товарищ Сталин! Обязательно к вопросу подготовлюсь!
— До свиданья! — сказал я, положил трубку и спросил себя: «Что я этим хотел сказать?»
В гостиную мне по-прежнему не хотелось.
— Орлов! — вернулся я к телефону. — Дай городскую!
Придвинул ворошиловский листок и — из цифр в ней — набрал номер. Ответила девочка. Плачущим голосом:
— Дядя Воля-а-а?
— Нет, — признался теперь уже я. — Это другой дядя… А почему ты плачешь?
— А мама опять ушла! Я проснулась, а она опять ушла.
— К дяде Воле?
— Не знаю… Звоню ему, а там никого… А какой дядя говорит?
— А где папа? — ответил я.
— А папа ушёл в море… Он капитан на «Иосифе Сталине».
— Это хорошо, что капитан. А кто такой дядя Воля?
— Он тоже капитан. На «Михаиле Калинине».
— А это плохо. Не что на «Калинине», а что хотя и капитан…