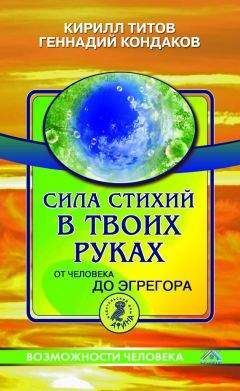Фридрих Горенштейн - Место
– Садитесь,– сказал он мне.
– Спасибо,– ответил я.
– Жарко на улице? – спросил меня майор.
– Не очень, – ответил я.
– Пожалуй, дождь пойдет,– сказал майор, глянув в окно.– Как футбол, так дождь идет,– сказал он мне, явно пытаясь не дать умолкнуть бытовому разговору.
Я же, если ничем не озлоблен и не огорчен и если человек со мной доброжелательно говорит, не могу его оборвать и всегда иду ему в подобном пустопорожнем бытовом разговоре навстречу, хоть ощущаю натужность, неловкость, и выражается это в том, что я не смотрю человеку в глаза. Наоборот, если я ощущаю открытую вражду, то смотрю прямо и с ненавистью. В подобной же ситуации, когда человек мне неинтересен, явно чужд, но не враждебен, я всячески стараюсь говорить с ним мягко и по-доброму, однако при этом смотрю мимо его лица в сторону, словно стесняюсь своей лицемерной вежливости. Ныне, поддержав разговор о футболе, я даже взял инициативу на себя, высказав свои соображения по поводу игры известного форварда, что было уже излишним, рассказав какой-то анекдот, правда, не политического плана, и услышал, как майор рассмеялся (услышал, а не увидел. Оживленно говоря, я смотрел в стену, на майора лишь изредка мельком, причем вниз на сапоги).
В это время в комнату вошел кряжистый, широкоплечий подполковник.
– Это Цвибышев,– сказал ему майор, как-то быстро глянув на подполковника и вложив в этот взгляд некий смысл.
– Садитесь, пожалуйста,– сказал подполковник (я встал, разглядывая футбольный график, который обнаружил на стене, и подполковник застал меня на ногах).– Так живете вы все время здесь, в этом городе? – спросил меня подполковник.
– Да,– ответил я, стараясь угадать, куда он клонит.
– А в войну где были?
– На Северном Кавказе,– ответил я, стараясь понять смысл eго вопроса (смысла не было никакого, это стало ясно не далее, чем через минуту-другую. Просто подполковник создавал атмосферу непринужденности и отсутствия напряжения, прежде чем сообщить мне известие, но создавал, по-моему, не совсем правильно, поскольку его вопросы меня настораживали).
– Был на Северном Кавказе,– повторил я,– до немецкого наступления в сорок втором.
– Знаменитое немецкое наступление,– улыбнулся зачем– го подполковник.
Впоследствии анализируя, я пришел к выводу, что подполковник был новичок в секторе розыска реабилитированных и вел себя неточно. Своим неточным поведением он и меня привел в состояние неловкости. Наступила пауза.
– Ну, приступим,– сказал наконец подполковник,– на ваш запрос мы получили ответ из места заключения… Согласно архивным данным, ваш отец, к сожалению, умер.– Он быстро посмотрел на меня, не станет ли мне дурно и не вскрикну ли я от горя…
Человек, равнодушный к чужой беде, всегда умозрительно преувеличенно воспринимает чужие страдания… В данном же случае ситуация носила вовсе нелепый характер, ибо никакого страдания с моей стороны не было и быть не могло. В сущности, он сообщил мне о смерти чужого человека, которого я не помнил и не знал. Более того, я никогда и не мыслил своего отца живым и, как уже говорил, опасался этого… Встречи с реабилитированными укрепили меня в этом опасении. Чувство неловкости, которое вызвал во мне подполковник, топорно и грубо готовя меня к скорбной вести, после сообщения этой вести еще более усилилось. Неловкость и за подполковника и за себя, за то, что мы оба стоим опустив глаза, будучи пустыми в душе. Более того, самостоятельно я не стал бы подавать заявления в эту инстанцию и подал лишь потому, что в военной прокуратуре мне на нее указали. Был лишь один человек, который за эту инстанцию ухватился бы в первую очередь, который не стал бы ждать ответа, а выехал бы туда, на место заключения немедленно. Но этот человек сам давно был мертв, этим человеком была моя мать… Только эти два человека нужны были друг другу просто так, без всякого повода и в любом виде… Но оба они были мертвы и потому оба в подлинном смысле и забыты… Навек исчезли их привычки, их слабости, их духовные и телесные подробности.
Впрочем, нельзя сказать, что я вышел из здания школы милиции совсем уж прежним и ничуть не изменившимся в душе… Нет, что-то осталось, что-то застряло внутри, однако снова приняв привычные формы личного, своекорыстного, и от всего сохранился осадок личной неудовлетворенности и даже раздражения, ибо все это, как мне показалось, приобретало характер некой несерьезной игры. То, что люди в чинах, в специально созданных учреждениях, занимаются этой игрой, и то, как подполковник готовил меня к скорбной вести, которая не могла меня взволновать, поскольку давно была известна и несомненна и поскольку покойный отец мой был мне чужим и незнакомым, и то, как я сам вынужден был, выслушав о смерти моего отца, вести себя как на чужих похоронах, все это теперь, когда я вышел на жаркую улицу (день был жарким), все это показалось мне стыдным для меня и оскорбительным. Чувство стыда и личного оскорбления особенно усилилось оттого, что я получил направление в ЗАГС, где мне должны были выдать удостоверение о смерти отца. Еще в детстве мне сказала мать, что отец мой умер, и вот теперь, в тридцать лет, мне сообщают об этом как новость и даже удостоверяют это документом…
Меня направили в один из районных ЗАГСов неподалеку (буквально за три дома) от КГБ (очевидно, в том была какая-то связь, и родственникам погибших в разных местах заключения выдавали документы именно здесь). Вообще мое представление старого холостяка о ЗАГСе имело весьма специфическую окраску, с некоторым даже налетом юношеской неловкости, стыдливости и страха перед неизведанным. О ЗАГСе я никогда не думал и в связи со смертью, но именно в этой связи мне пришлось впервые переступить его порог. Очевидно, этот жаркий полдень (было не менее тридцати градусов, асфальт стал мягким, а неподвижная листва как чехлами была покрыта горячей пылью), очевидно, этот полдень не способствовал свадьбам, и в ЗАГСе было пусто и тихо. Впрочем, несколько человек в вокзальных позах сидели в большой комнате, но не по-праздничному одетые, видно, для предварительной подачи заявлений. Я увидел это в открытую дверь, но туда не пошел, поскольку тут же в коридоре я узнал, что регистрация умерших у входа за боковой дверью. В комнате сидела за столом молодая женщина. Я протянул ей направление, и при этом мной овладело вновь крайнее чувство неловкости, в котором раздражение если и присутствовало, то нельзя сказать в малом, скорее в сжатом состоянии, как пружина.
– Вот,– сказал я тихо,– пришел приятную весть получать (вышло какое-то подобие глупой шутки).
– М-да,– коротко выразилась женщина, то ли по долгу службы сочувствуя мне, то ли просто находя неприличным оставить без ответа любое высказывание посетителя.
Вряд ли она мне действительно сочувствовала. Лица, обслуживающие подобные учреждения, относятся к скорби посетителей естественно и профессионально. Правда, перебирая картотеку, женщина несколько раз бросала на меня встревоженно-заинтересованный взгляд. Я отношу это к тому, что как раз на лице моем не было подобающей данному случаю скорби, а была скорее некая нервная неловкость и даже стыдливость. Наконец женщина нашла карточку моего отца, вынула ее и принялась, заглядывая туда, писать на гербовом бланке свидетельство о смерти, заполняя стандартные графы: фамилия – Цвибышев, имя, отчество – Матвей Орестович…
Графы национальность в свидетельстве о смерти не было. Было место смерти, дата смерти и причина смерти… Город Магадан, писала она, седьмого марта 1938 года. Причина смерти паралич сердца. Она расписалась и поставила дату, приложила печать. Все дальнейшее происходило в полной тишине, лишь слышно было, как скрипит перо да за окном проносятся трамваи. Женщина промакнула написанное канцелярским пресс-папье и протянула мне свидетельство. Я взял, поднялся и не прощаясь вышел…
Итак, итог последних событий: отец достаточно легко и просто посмертно восстановлен в партии. Мать в партии не восстановили, поскольку она не была подвергнута прямым репрессиям, смерть ее у властей не могла вызвать чувство ответственности, и потому ее посмертное положение для меня было менее важно. Отец же был легко восстановлен посмертно в партии, и это вновь вселило в меня чувство уверенности и капризного какого-то утверждения своих прав, когда любое извинение за причиненные мне унижения кажется мне недостаточным и за свои унижения хочется тиранить постоянно власть (я говорю – вновь, ибо подобное чувство уже возникало вначале, но после того, как военная прокуратура отказалась подтвердить документально генеральский чин отца и после окрика следователя Бодунова в мой адрес, представление мое о собственных правах приобрело более скромный вид, и нервы мои, расшалившиеся от капризного сознания невозможности извиниться передо мной, нервы мои даже успокоились). Однако посмертное восстановление отца в партии и сообщение о его смерти (вернее, форма сообщения), в которой, как мне покачалось, представители МВД делают все, чтоб уменьшить мое негодование по поводу совершенных против меня несправедливостей, все это вновь расшатало мои нервы и привело меня в деятельное состояние, как в начале, при посещении мной районной и генеральной прокуратуры. Правда, тогда в состоянии моем было более детской радости, восторженности и благодушия, связанных с переходом от полного бесправия к правам, обеспечивающим мне (так я думал) блага и прямую дорогу в общество. Ныне же от полного бесправия я успел отвыкнуть и к тому же ожесточился, с одной стороны, препятствиями на пути к восстановлению прав, с другой стороны, ставшими мне известными некоторыми подробностями ареста отца, его разжалования, его смерти (формулировка «паралич сердца» меня особенно ожесточила). Поэтому, на втором этапе самоутверждения, мне требовалось не столько даже удовлетворение моих прав и нужд, сколько постоянное удовлетворение моего капризного ожестечения; требовались беспрерывные извинения передо мной, которые бы я отвергал. Именно в таком состоянии я и пошел в жилищную комиссию исполкома…