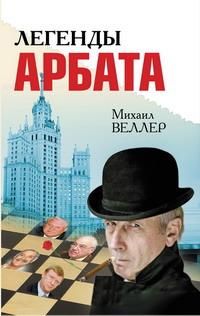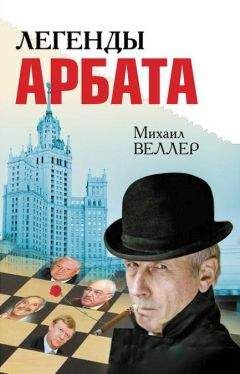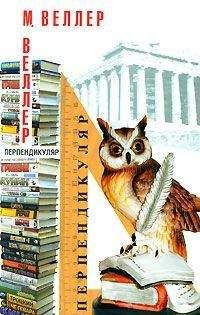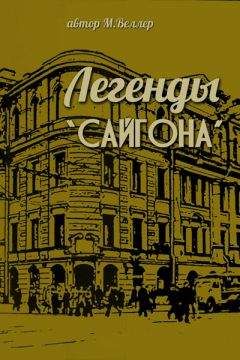Михаил Веллер - Легенды Арбата
- Нюма, - сказали два Яшки. - Что за типично еврейская страсть без конца пересчитывать свои несчастья?…
И стали загибать пальцы, благо брать ими со стола было нечего:
- Поэт. На русском. Новаторская форма. Еврей. Без связей и покровителей. Москвич - квота в планах на них превышена. Примелькавшийся, но затертый.
«Это мы…» - закручинились три богатыря.
- А требуется - по принципу от обратного, - сказал Яша-2:
Первое. Национал. На них план. Не хватает.
Второе. Из малого народа. До советской власти вообще письменности не имели.
Третье. Провинциал. Живущий в своей глуши.
Четвертое. Никому не известен. Литературное открытие!
Пятое. Форма - классическая. С вкраплениями местного колорита.
Шестое. Его книжка должна выйти на родине на местном языке. И тут ее узнает Москва!
Седьмое. И эти стихи подборками идут в издательства, в журналы, в секретариат, в комитеты по премиям, куда угодно - в хорошем русском переводе. Чтоб переводчики были уже как-то известны.
Они посмотрели друг на друга, вдруг Нюма поймал чей-то взгляд в дверях, вскочил, заулыбался, заспешил, и через пять минут вернулся с пятью рублями.
Это резко усилило реалистичность написанной картины. Коллеги эффективно отоварили пятерку, и возникло чувство, что жизнь-то понемногу налаживается!
- А тебе что с того нацпоэта?… - вздохнул Яша-1. - Меня уже тошнит от подстрочников.
- Кирюха, - удивился Яша-2. - Под его маркой ты можешь публиковать свои стихи вагонами и километрами. Нганасанскому акыну везде у нас дорога. Да у тебя эти переводы с руками отрывать будут. Это ж не с французского!
- Те-те-те, - мечтательно поцокал Нюма. - Желательно первобытное племя, не искаженное грамотностью. Чтоб ни один сородич своему трубадуру не конкурент.
- Гениально! - оценил Яша-1. - Поймать и бить, пока не забудет все буквы. Но - где ты найдешь поэта?!
- Яшке больше не наливать, - велел Яша-2. - Идиот. Брат Карамазов. Сначала - ты - пишешь - стихи. Потом он переводит их на язык родных фигвамов. Потом этот золотой самородок издает на нем книжку дома. И шаманский совет племени укакивается от счастья.
- Обязательно, - подтвердил Нюма. - Сначала на родном языке дома. Как он ни курлычь - на бесптичье и коза шансонетка. А дома - н-на! - план по национальным поэтам. А их - хренушки! Зеленая улица - а на ней кусты, алкаши и зеленые гимнастерки.
Как вы видите, поэты даже в приватном застолье тяготеют к метафоре с гиперболой.
Дубовые панели поглощали свет, дым колыхался волнисто, как на кораблекрушениях Айвазовского, и творческий процесс, зуд нежных душ, мечтательно почесывал что-то очень важное в жизни.
- По два с полтиной за строчку… - грезил Яша-1.
- И заметь - любая…я…я! - поддал Яша-2. - С национала свой спрос: хоть какой-то ритм, где-то рифма - а! о! шедевр народной сокровищницы! орден! звание! всем пукать от восторга!
- Сорок строк - стольник в день, - зарыдал Нюма. - Господи, ну почему дуракам счастье!
Шел десятый час: ни одного свободного места. У официанток пропотели подмышки. Языки развязались и стали длинные, змеиные, сладкие и без костей. В среде искусства, замкнутой в периметр кабака, решалось, кто с кем спал и зачем, кто делал аборт, кто кому дал денег, кому предложили договор, а главное - кто кому лижет и кто кому протежирует. Это сплетенье рук, сплетенье ног, переходящее в судьбы скрещенье, как справедливо отметил классик, напоминто грибницу в фанерной коробке. Эх, ребята, не знать вам уже ЦДЛ старых времен.
За столиком в глубине элитного угла, слева от входа, обер-драматург и редактор «Огонька» Софронов, осаленная туша сталинских эпох, с важностью начальника счастливил собутыльников довоенной историей:
- …И Алексей Толстой со смехом выдает этот анекдот про Берию и сталинскую трубку. Все свои, проверенные, пуганые, смеются: границу знают! Лавренев, Шагинян, Горбатов… И вдруг Толстой замечает, что у Лавренева лицо стало буквально гипсовым. Глаза квадратные и смотрят в одну точку. Толстой следит за направлением его взгляда - и находит эту точку. Это крошечный микрофончик… Незаметно так закреплен за край столика. И под стол от него тянется то-оненький проводочек.
Алексей Толстой стекленеет от ужаса. Он хорошо помнит, как у него тормознули на границе вагон с награбленным барахлом из Германии, и на его телеграмму лично Сталину пришел ответ: «Стыдитесь зпт бывший граф тчк».
И Толстой начинает без перехода превозносить величие вождя всех народов. Клянется в преданности. Преклоняется перед гениальностью его литературных замечаний. А в глотке сохнет, аж слова застревают.
И все как-то быстро, тихо расплачиваются и встают.
И видят, что Мариэтт Шагинян отцепляет этот микрофончик, сматывает проводок, вынимает из уха микронаушник, и прячет весь этот слуховой прибор в сумочку. Старуха была глуха, как тетерев. И ей привезли из-за границы приспособление.
Толстой хотел ее убить! Одной рукой за сердце, а другой этой по!
Ему посмеялись в меру субординации.
А кругом! Нестора мне, Тацита, Чосера! За приставным столиком у лестницы тихо спивается в прозелень рано лысеющий Казаков, любимец всех, принятый в Союз по двум рассказам. Евтушенко, вертя головой короткими птичьими движениями, как следящий за окружающим пространством истребитель, внимательно фиксирует боковым зрением, все ли на него смотрят. Изящная Ахмадуллина укладывает под стол очередного хахаля, пытавшегося пить с ней на равных. Рождественский, картавя и заикаясь, тщится поддерживать беседу,
которая катится от него, как поезд от хромого на перроне, и слово заскакивает в вагон на два предложения позднее своего места. Максимов примеряется к ближайшей морде, которая ему не нравится. Праздник литературы!
И в этот бедлам застенчиво торкается пополнение. В дверях встает, как портрет джигита в рамке, парень с необыкновенно выразительным кавказским носом. Такой руль. Паяльник шнобелевич. Багратион отдыхает.
Сквозь дым битвы и гам славы он безнадежно вы-целивает орлиным оком свободный стул. И планирует к нему на любезных крыльях. И два Яши хотят его гнать. Это Нюмин стул. Занято. В туалет отошел.
- Ба! У нас гость! - возникает Нюма и хватает пролетающую официантку за ближнюю выпуклость. - Раечка, стульчик организуй нам. - А двум Яшкам делает рожи: молчать, пьяные идиоты!
И они переглядываются, как аборигены, которые хотят съесть Кука. И расцветают циничным дружелюбием. Легко знакомятся, церемонно трясут руки.
- Не хотите ли рюмочку? - радушно приглашают щедрые москвичи. И доцеживают сиротские капли. И выжидают испытующе.
- Сейчас я закажу, - объявляет гость и гордо зовет официантку. Официантка его гордость игнорирует профессионально. Официантка, как публичная мать, реагирует на плач только своих.