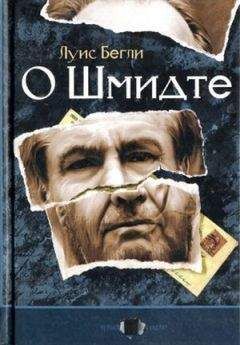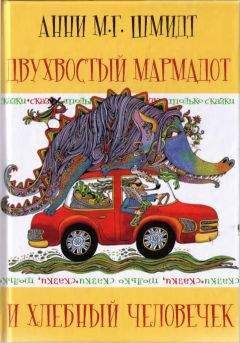Вионор Меретуков - Меловой крест
А это, повторяю, бывало не раз, все более и более укрепляя меня в мысли, что даже в пьяном виде во мне не ослабевает существующая, вероятно на подсознательном уровне, неодолимая тяга к прекрасному.
Сейчас в моей памяти зияла преогромная дыра.
На скорую руку я занялся вычислениями, подсчетами, гипотезами и иными логико-математическими построениями.
Ничего не приходило в голову. Ничего разумного. В голову лезла всякая чепуховина. Вроде вчерашней двухметровой милиционерши или престарелой соседки тети Шуры.
От напряжения мозги загудели. Вздох повторился. Я сел на кровати. И в этот момент, скосив глаза, увидел себя в зеркале. Растерзанный небритый мужчина сумасшедшими глазами смотрел на меня из сумрака спальни и, глуповато улыбаясь, к чему-то прислушивался, наклонив голову набок. Точно так же, вспомнил я, улыбался один мой не очень хороший знакомый, когда у него просили взаймы.
— С добрым утром, — услышал я голос, который тысячу раз слышал во сне и услышать который боялся больше всего на свете.
И ничей другой голос я сейчас не хотел бы услышать так, как этот…
…Окно открыто, порывы свежего ветра парусят тюлевую занавеску, время стоит на месте…
Город будто вымер, ни звука извне…
Только далекий колокольный звон из прошлого…
— Мы идем, идем, идем… И у каждого своя дорога… Почему ты меня ни о чем не спрашиваешь? — говорила Дина и смотрела на меня зелеными смеющимися глазами.
— Что бы это изменило… И потом, я устал получать на свои вопросы лживые ответы. Не лучше ли тогда вовсе обойтись без вопросов?
— Я тебе никогда не лгала… Может, недоговаривала…
— Нельзя все время лгать…
— А иногда?
— Иногда — можно…
— Ты счастлив?
— О Господи!.. Спроси, не раздумал ли я вешаться…
— Зачем? Ведь жизнь и так коротка… И прекрасна.
— Согласен. Это я понял давно. Особенно то, что она коротка…
— А что если я больше никогда, ты слышишь, никогда от тебя не уеду?.. И буду всегда с тобой?
— Это угроза?
Дина засмеялась.
— Нет, правда, мне так все осточертело… Если бы только знал, как мне все ос-то-чер-те-ло!.. И потом, я поняла, что люблю тебя.
— Вот как?
— Да. Ты не самый, наверно, лучший человек на свете. Но остальные еще хуже…
— Это комплимент?
Она задумалась. Потом сказала твердо:
— Да.
— А как же твоя карьера? Италия, Милан, Вена, Париж…
— Карьера?! — она отвернулась. — Петь в ночных кабаках? Это я могу делать и здесь… И еще, тебя нельзя надолго оставлять одного!
— Так же, как и тебя…
— Ну вот, видишь, как все сходится. Решено, я переезжаю к тебе! Надеюсь, на тебя прекратили охоту? Или по тебе палят, как по мишени? Если так, мы можем поселиться у меня на Арбате.
— Не все так просто…
— Ты боишься? Боишься, что я опять выкину какой-нибудь фортель и сбегу?
— И это тоже… Но главное в другом.
— В чем же?..
— В том, что у тебя странная манера разговаривать. Я нарочно подсчитал, ты задала мне больше десятка вопросов!
— Но ты же ни на один не ответил! Ты игнорируешь меня…
— Мы можем поговорить серьезно?
— Я-то как раз говорю серьезно. Вдумайся! Я второй раз предлагаю тебе совместное проживание или, ненавижу это слово! сожительство. Неужели ты откажешься?! Молодая красивая женщина предлагает себя… Кстати, ты не забыл о разнице?..
— В возрасте?
— В социальном положении! Я кое-что заработала. И потом, у меня полдома на Арбате. Я же богата! А ты? Я ночью страшно проголодалась, пошла на кухню, рыскала там по всем углам и сумела разжиться только спичками и солью… Ты что, к войне готовишься?
— Это еще почему?
— Помимо соли и спичек, я обнаружила у тебя стратегические запасы мыла…
— Это для веревки…
— Какой еще веревки?..
— Так все удавленники делают… Намыливают веревку и… Чтобы удобней было.
— И ты еще призывал меня говорить серьезно!
— Я и говорю серьезно… Разве можно шутить такими вещами? А если уж совсем серьезно, то как раз в этой-то разнице все и дело. Дина, я беден, как последний нищий. А я привык за себя в ресторане платить сам. В крайнем случае, я разрешаю это делать друзьям. Но никак не женщине!
— С каких это пор ты стал таким щепетильным?
— Дина, — закричал я, — я весь в долгах! Мои картины не продаются! Я опять дружу со Шварцем! Я готов совершить преступление! Я уже почти преступник… Вот ты вернулась, и я… я не могу без тебя!
— Успокойся! Я же говорила, тебя нельзя оставлять надолго одного. Скажи, может, ты попал в дурную компанию?
— Я сам себе дурная компания! Я тут недавно подумал, какое мне дело до всех этих нравственных ценностей, о которых слышу столько, сколько живу? Пройдет совсем немного времени, — каких-нибудь пять или двадцать пять лет, — и я исчезну. Превращусь в пыль. В Ничто! Меня не будет! А коли так, что мне до всего остального? До этого мира, который меня не принял, до людей, которым на меня наплевать? И которые забудут меня тотчас, как только я перестану дышать? Мы будем квиты, если я причиню им зло… Что ты так на меня смотришь? Тебе страшно? Уже не передумала ли ты предлагать мне сожительство?
— Пока нет.
— Погоди, я еще не все сказал! Хотя я сейчас ничего так не боюсь, как смерти, мне, наверно, будет не страшно умирать. Сказать почему? Я уже мертв. Я мертв настолько, насколько может быть мертвым человек, лишенный интереса к чему бы то ни было. Я человек, лишенный желаний! И единственное чувство, которое еще как-то может меня взволновать, это любопытство. Только это удерживает меня от намыленной веревки или чего-то там еще… Мне чуть-чуть любопытно знать, удастся ли мне кое-что в скором времени сделать… И это все. А теперь ты, наверно, хочешь знать, почему я стал таким? Открыть тебе секрет? Сейчас я тебе во всем признаюсь. Итак, слушай. Счастлив тот, у кого есть мечта и вера, что эта мечта сбудется. Я же ни во что не верю! Знала бы ты, как это ужасно потерять веру, когда тебе сорок! Я спрашивал себя, почему мне не везет, может, я не успел вскочить в последний вагон уходящего поезда? Спрашивал, спрашивал, пока не понял, что поезда, моего поезда, не было вообще. Вернее, он был, но промчался мимо. Он, оказывается, и не должен был останавливаться на моей станции. Словом, Господь обделил меня талантом, он дал мне маленький, убогонький талантишко, забыв предупредить, чтобы я обращался с ним осторожно. Некоторые люди принижают свои способности, другие склонны, без должных на то оснований, непомерно возносить себя и свои возможности. Я из числа последних… Я сожрал самого себя!.. Я одинок! Я устал ждать! Я жду всю жизнь! Господь наградил меня умеренным талантом, я же возомнил себя гением. Мы, русские, не можем иначе. Как же, нам мало поджаренного кусочка окорока, нам подавай весь окорок, да что окорок, подавай нам всего теленка! Русский, если ему что-то взбредет в башку, не может удовлетворяться частью, ему нужно всё! Всё, всё, всё — до конца, до предела! Или — ничего! Если русский вдруг и сразу не стал Наполеоном — все, пиши пропало! Ему недостаточно быть полковником! Мало ему! Генералом хочу быть, и все тут! А если не получается стать генералом, все летит к черту. Поэтому у нас так много несостоявшихся гениев, которые находят утешение в водке и кончают свой жизненный путь в сточной канаве. У нас в России сточные канавы издревле забиты спившимися гениями. И я готов пополнить ряды этих счастливчиков!
Я молол всю эту сумасшедшую бредятину, которую непроизвольно исторгал из себя и в то же время холодно наблюдал за собой как бы со стороны. Наблюдал и непредвзято, насколько это возможно, когда речь идет о тебе самом, оценивал этого самого себя и приходил к выводу, что представляю собой нежизнеспособную помесь — если проводить параллели с классикой — Печорина с Обломовым, только, естественно, в современном ее варианте.
— Тебе надо подлечиться, — это все, что я услышал от Дины. — А для этого тебе надо переехать ко мне. Я буду поить тебя…
— Знаю — змеиным ядом. Это, насколько мне известно, излюбленный напиток всех женщин без исключения…
— Хочешь, я выйду за тебя замуж? Третий раз предлагаю. Произведу на свет маленького Бахметьева. Будешь его нянчить…
— А что будешь делать ты?