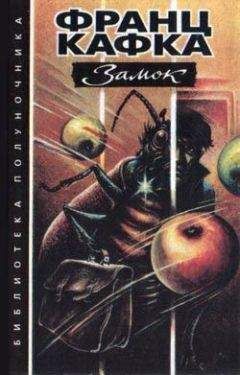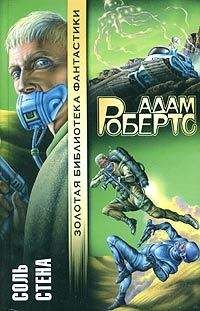Александр Кабаков - Очень сильный пол (сборник)
Долго разглядывал Мишка обложку, пока лыжи окончательно не прилипли к лыжне. Опомнился, книжку сунул туда же, где была, застегнулся, проверил еще раз, надежно ли спрятан конверт, и побежал дальше. Он уже начинал догадываться, что ему скажут там, куда он бежал.
Последний спуск был самый крутой, Мишка, как всегда, и на этот раз едва удержался на ногах. И вылетел прямо на улицу пристанционного поселка. Притормозил, развернулся, не снимая лыж, боком подобрался к окну в торце длинного барака, известного под названием железнодорожного второго дома, тихонько постучал – три раза, потом еще раз…
И только теперь порадовался, что ни разу за всю дорогу через лес и болото не представил себе слепого Пью – раньше всегда представлял его в темноте, из-за этого, закаляясь, часами просиживал в отцовском темном кабинете. Мать возмущалась: «Не понимаю, как человек может проводить время таким образом? Тебе нечего читать?» А отец, вешая в прихожей реглан, посмеивался: «Как же ты не понимаешь, матушка? Он же темноты трусит, волю тренирует… Идем ужинать, Рахметов!» Кто такой Рахметов, Мишка не знал, но на отца почему-то не обижался и сразу шел ужинать, деловито постояв в ванной перед открытым краном – как бы помыв руки…
Дверь барака длинно заскрипела, выскочил в накинутом на плечи взрослом полушубке – полами до земли – сын дежурного по станции Ильичев Володька. Оглядываясь на окна барака, почти все темные, прыгая по снегу коротко обрезанными чесанками, зашипел:
– Ты чего поздно стучишь, Михря? – И, заметив, что Мишка на лыжах, сразу ошалел. – Ты чего?! Через лес!.. Во, Михря, смелого пуля боится.
Стал юлить, крутиться вокруг Мишки, сопеть, слизывать нижней губой свои всегдашние сопли – в общем, Володька есть Володька, недаром и прозвище имел самое ужасное в школе – Вовка-вошка. Противно, но у другого не узнаешь.
– Слушай, Володька, есть к тебе дело, – сказал Мишка. – Только никому об этом, понял?
– А когда я звонил? – Володька даже сделал вид, что обиделся, хотя всем было известно, что трепло он первое. Но обида обидой, а интерес интересом. Володька придвинулся, даже перестал перебирать надетыми на босу ногу чесанками. – Ну, какое дело?
– Дай пионерское под салютом всех вождей. – Мишка потребовал скорее для порядка, зная, что если только не пригрозить хорошенько, Володька все равно растреплется. Но пригрозить Мишка тоже собирался – потом.
– Под салютом всех вождей честное сталинское, – бормотал Володька и на всякий случай перекрестился, обернувшись в сторону спаленной церкви. – Ну, говори, какое дело?
– Вчера вечером что на дороге видел?
Володька даже подпрыгнул, черпанул чесанком снег, выругался:
– Скребена мать! А тебе зачем?
– Надо.
Володька долго кривлялся, торговался, договаривался, что Мишка будет за него драться, если кто назовет Вовкой-вошкой. Наконец Мишка достал из кармана жужжалку, показал Володьке. Тот сразу согласился – фонарик вся школа знала. Шептал Мишке в самое ухо, один раз даже потерял равновесие, мазнул сопливыми губами Мишку по щеке:
– …на двух легковухах черных. Один, в летчицком пальто, хром первый сорт, дорогу спросил. А дача, говорит, которую недавно построили, далеко от деревни? Я говорю – недалеко, товарищ командир, на бугор въедете – сразу видно. Они уехали. А утром отец с дежурства пришел, думал, я сплю, матери говорит: «Дача-то освободилась». Я лежу. Мать говорит: «Откуда ты все знаешь? Лучше бы неграмотный был… Молчи, пока тебя не спрашивают». А отец знай свое – докладывает: «Одна машина потом вернулась. Заходит ко мне в дежурку высокий, из-под бобрика хромачи, спрашивает телефон, в Москву звонить. Мне выйти приказал, набрал номер, а слышно плохо. Он кричит – мол, але, здесь гость оказался, а сам, мол, готов. Он кричит, а по всей станции слышно. Покричал, потом молчит, слушает. Потом снова кричит – есть, берем обоих и едем. Вышел из дежурки, спасибо мне сказал, посмотрел внимательно – и все, уехали. А через полчаса снова – обе машины на шоссе, битком набиты, еле ползут по снегу. Развернулись у станции и – ходу на Москву…» Мать давай реветь: «Чего он на тебя смотрел? Черта ли тебе надо было слушать под дверью?» А отец ее послал подальше и спать лег. А я картошки толченой поел и в школу пошел. А картошка с салом, вот сколько. А чего тебя в школе не было? А по географии училка говорила про Польшу – страна… это… выблядок… нет… ублюдок… это чего значит, а?
– Ничего не значит, – сказал Мишка, – а в школу я и завтра не приду, у меня ангина и справка есть от фельдшерицы.
– Ангина, а сам на лыжах по ночам гоняешь, а у нас проверка по военному делу, а ты саботируешь, – ухмыльнулся Володька, – и льешь воду на мельницу, понял? Фонарь давай.
– Слушай, я тебе его в школе отдам, ладно? – Мишка сделал самые честные глаза. – Как я сейчас в темноте без фонаря побегу? А в школе отдам, честное…
– Не мое дело, понял?! – Володька сразу завизжал шепотом. – Давай фонарь, брехун, сука московская! Завтра скажу пионервожатой, что ты за легковухами следил, узнаешь тогда! Яблоко от яблони…
Мишка размахнулся палкой, Володька увернулся, палка слабо проехала по спине полушубка. Володька было примерился заорать, но Мишка палки бросил, поймал его за рукав, притянул к себе.
– Молчи! Держи фонарь, – сунул жужжалку в потную ладонь. – И попробуй кому прозвони – я тебе… ну, сам знаешь чего. А еще про яблоню скажешь – по башке кирпичом, понял?! И мильтону Криворотову скажу, а мать на станцию пойдет – пусть знают, что это ты за дорогой следил, а отец твой подслушивал. Знаешь, чего вам за это будет?
Толкнул Володьку от себя, тот запутался в полушубке, шлепнулся об стенку барака. Пробормотал:
– Вам с твоей маманей недорезанной никто не поверит…
Но бормотал без уверенности, и Мишка понял – будет молчать. Пока, во всяком случае, а там видно будет. Мишка поднял палки, развернулся, пошел, сильно наклоняясь вперед, в гору. Володька вслед негромко крикнул:
– Эй, а как же ночью без фонаря? Страшно?
И засмеялся. Заскрипела, хлопнула дверь. Мишка лез в гору, стараясь не думать о Володьке и его смехе.
Снег пошел, когда он был уже на половине дороги. Пыхтя на подъемах – обратная дорога со станции вся такая, не разгонишься, – Мишка не заметил, как спряталась луна. И вдруг все сразу пропало: потемнел, совсем черным, невидимым стал лес, только лыжня мерцала, а через минуту и лыжни не стало, повалили хлопья, закрутило, загудели ели, сразу похолодел пот на лице под ветром…
А фонаря у Мишки не было.
И хуже всего, что не стало видно леса. Просто сплошная тьма и гул. Ни веток приметных, ни поваленной березы, ни вывороченного из земли корня, на котором висит неведомо кем оставленное дырявое ведро. Ничего. Темно. Холодно. Ветер. Метель в зеленом лунном луче-нитке.
Мишка сообразил минут через пять: идти надо все время в гору, чтобы чувствовался подъем, тогда обязательно выйдешь к деревне. И он старался идти в гору, налегая на палки, оскальзываясь лыжами, плюясь снегом, отогревая по очереди за пазухой руки. Потом он попробовал бежать в гору без отдыха – и задохнулся, но быстро согрелся. Потом снова пошел шагом и снова замерз.
Снова побежал – замерзли ноги: оказалось, что они по-настоящему и не отогрелись с тех пор, как ходил в носках по холодной даче. «Неужели это сегодня было?» – удивился Мишка. Теперь он шел в гору машинально, совсем не думая о снеге, о холоде, о темноте. Так же машинально вытащил из кармана оба Колькиных куска хлеба и сжевал их. Из другого кармана вытащил взятый для матери сыр, съел и его. И тут же испугался по-настоящему: какой же дурак съедает все запасы в первые часы? Но было поздно. Кроме того, Мишка уже начал думать о деле, это сразу отвлекло от страха. Он разгадывал первое дело Майка Кристи, он мог вот-вот разгадать его…
Мишка уже совсем замерз, руки болели, щеки стали неметь, и пальцы на ногах больно упирались в ремни креплений, когда он почувствовал, сначала совсем слабый, запах тухлого яйца. Он вышел к болоту.
И тут же разошлись тучи, снег пошел реже, почти совсем стих, и ветер угомонился, и зеленый луч луны – нитка с нанизанными на ней хлопьями снега – превратился в ясный и сильный свет. Мишка увидел, что он не просто вышел к болоту, а лишь чуть правее обычного места, отклонившись от лыжни всего метров на триста. Тогда он снял варежки, надел их на концы воткнутых в снег палок, вытер руками мокрое от снега лицо, подышал в ладони – и заплакал почти в голос. Он плакал минуты три, хотя все уже было в порядке, и даже хорошо – он оказался достоин самого Сайруса Смита, сумев в полной тьме найти дорогу по небольшому подъему и определившись по запаху болота. Но теперь он стоял и плакал – минуты три, а то и больше.
Через болото и поле он бежал на скорость, а пробегая мимо дачи, приостановился. В верхнем окне по-прежнему был виден неяркий свет, и Мишке показалось, что он услышал, как постукивает незапертая рама. Мишка прислушался. Рама скрипнула и тихонько стукнула еще раз.