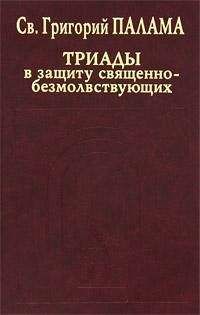Журнал «Новый мир» - Новый Мир. № 2, 2002
Можно полагать, что сам Александр и люди, близкие ему в его религиозных исканиях, также рассчитывали на определенную консолидацию общества на основе «истинного христианства» (хотя, конечно, вопрос об общественной поддержке не был для них первостепенным). Во всяком случае, новый дискурс содержал элементы, которые могли быть привлекательны для разных секторов общества. Он сохранял сделавшуюся привычной для элиты европейскую ориентацию, поскольку то христианство, энтузиастом которого был Александр, могло рассматриваться как надконфессиональное и потому европейское. Вместе с тем он содержал существенные элементы просвещенческой парадигмы, предполагая воспитание (и образование) общества. Одновременно христианские моменты присутствовали в нем самым наглядным образом, и для общества (в том числе и элитарного), остававшегося в подавляющем большинстве православным, это восстановление религиозных ценностей могло быть осуществлением заветной мечты. Для определенной части дворянской элиты надконфессиональный спиритуализм этого дискурса выглядел как желанное избавление от «варварства» или «провинциализма» традиционного православия. Однако для образованного духовенства, воспитанного в духе митрополита Платона Левшина, тот же самый дискурс мог видеться не как отход от православия, а как разрыв с «волтерьянским» безбожием Екатерининского царствования. Именно так, похоже, воспринимал в 1813 году александровский мистицизм Филарет Дроздов: император становился благочестив, пусть и не совсем по-православному, и это создавало перспективы для развития православной образованности (Филарет активно участвовал в работе Библейского общества) и вместе с тем для повышения не по-европейски приниженного социального статуса духовенства[26].
«Идеологии» Александра в период после 1812 года посвящены восьмая и девятая главы монографии. Как и в предшествующих разделах, речь в них идет одновременно о политике и о литературе, однако взаимопроникновение этих двух сфер, достаточно убедительно продемонстрированное для периода до Отечественной войны 1812 года, в этих главах получает несколько формальную трактовку. Восьмая глава представляет, по существу, отдельное эссе с великолепным разбором послания «Императору Александру» В. А. Жуковского. Рассказ о политическом контексте этого послания (присущее Александру религиозное осмысление победы над Наполеоном, отношения Александра с Юнгом-Штиллингом и т. д.) представляет собой лишь исторический комментарий к поэтическому тексту. Сыграл ли этот текст какую-либо роль в формировании государственного политического дискурса, почерпнули ли что-либо из него Александр и его соратники — остается неясным. Общие соображения побуждают предполагать, что послание Жуковского осталось внутрилитературным фактом и в этом плане никак не может быть поставлено в один ряд, скажем, с манифестами, сочинявшимися Шишковым. Зорин приводит интересные соображения о психологическом состоянии Жуковского в данный период, о том, почему ему могла быть близка спиритуалистическая риторика Александра, однако общая концепция книги никак в данной главе не реализуется.
Едва ли не то же самое можно сказать и о следующей главе, хотя фактура ее радикально отличается от фактуры предшествующей. Речь в ней идет преимущественно о религиозно-политических идеях Александра, о Священном союзе как религиозной утопии, о том, как Александр мучительно пытался определить собственную миссию в этом эсхатологическом проекте. Рассказывается о том, как Александр временами убеждался в своей провиденциальной роли и воспринимал себя как избранника Божия (этому способствовали его отношения с баронессой Крюденер), а временами становился крайне неуверен в себе. Интересные соображения высказываются и о том, как Александр понимал сочинения Эккартсгаузена, хотя общий контекст европейского мистицизма, в котором думал и действовал Александр, описан лишь фрагментарно (что и понятно: полное описание должно было бы быть предметом отдельной монографии)[27]. Жуковский появляется и в этой главе, две страницы посвящены его «Певцу в Кремле», однако в этом случае литературный текст не прибавляет к анализу религиозного дискурса Александра и его общественной рецепции ничего, кроме единичной художественной иллюстрации.
Девятой главой завершается рассмотрение литературно-политических процессов Александровского царствования. Последняя, десятая, глава переносит нас уже в царствование Николая, в 1830-е годы. Глава посвящена генезису уваровской триады «православия, самодержавия, народности». Вполне справедливо указывается на то, что принцип народности восходит к немецкому романтическому понятию Nationalitдt. Понятно вместе с тем, что в русской ситуации «народность» означала совсем не то, что «Nationalitдt» в немецкой, где принцип национального единства релятивировал государственное устройство различных немецких земель, создавая основу для конструкта единой Германии. Зорин, конечно же, осознает это различие и ясно показывает его значимость. На мой взгляд, однако, его русская контекстуализация остается неполной в двух аспектах. Народность была русской версией национального суверенитета (этот момент в книге отмечен). Данный принцип позволял рассматривать Российскую империю как своеобразное национальное государство — в одном ряду с другими национальными государствами Европы. Вместе с тем народность как квинтэссенция национального бытия определялась у Уварова неотъемлемыми характеристиками русского народа — преданностью вере и престолу. Тем самым национальный суверенитет из доктрины, разрушительной для империи, превращался в постулат, консервирующий существующий порядок (говорю о дискурсивной практике, а не о внутренней политике).
Формулировка этого хитроумного кунштюка принадлежит Уварову, однако в предыстории этой парадоксальной и утопической реконцептуализации стоит Карамзин. Именно он, озабоченный той же руссоистской проблемой национального суверенитета, придумал преданность вере и престолу как две основные черты русского национального характера. Исчезнувший из исследования Карамзин (об этом мы уже говорили выше) лишает уваровскую триаду части ее предыстории, поскольку она была во многом лишь окончательной формулировкой монархического национализма Карамзина, сохранявшей основные параметры этого идеологического конструкта. Для Уварова, как и для Карамзина, Россия не отгорожена от Европы, но является частью европейской цивилизации; Уварову, как и Карамзину, цивилизационный процесс в России видится в качестве постепенной образовательной эволюции, в ходе которой Россия должна избежать пагубных заблуждений европейского радикализма. Уваров не столько изобретал новую национальную парадигму, сколько перекомпановал и приспособил к новой ситуации идеи, усвоенные у Карамзина (хотя Карамзин безусловно не был единственным источником его идей).
В книге нет и достаточно полного ответа на вопрос о том, в чем состояла эта новая ситуация. И в этом трудно не видеть результата еще одного неоправданного перескока, простительного для книги очерков, но создающего содержательные проблемы при построении последовательного исторического повествования. Ясно, что Николай, который, по словам Пушкина, вдруг оживил Россию «войной, надеждами, трудами», искал выхода из той бесперспективной унылости, которой был ознаменован конец Александровского царствования. Симптомом этого удрученного состояния государственной мысли было не столько даже восстание декабристов (о нем Зорин вправе не говорить, поскольку оно воплощало мысль «антигосударственную»), сколько события, ему предшествовавшие: торжество риторики архимандрита Фотия и митрополита Серафима, закрытие Библейского общества, увольнение А. Н. Голицына, назначение Шишкова министром народного просвещения.
Это несомненно был кризис всего того космополитического проекта, которому Александр посвятил последнее десятилетие своего царствования. Об этом кризисе Зорин говорит лишь вскользь, рассматривая его как результат панического страха Александра перед международным заговором. Хотя важность конспирологического аспекта не стоит отрицать, он явно не дает исчерпывающего объяснения. По существу, речь шла о дискредитации самой лидирующей роли монарха в определении путей вверенной ему от Бога державы, так что неожиданная смерть Александра могла восприниматься как его последнее поражение. В этом кризисе, как показывает назначение Шишкова, вопрос о русской национальной идентичности вновь приобретал актуальность. Было бы существенно проследить, как Николай искал выхода из этого кризиса, из каких элементов он конструировал свою позицию. Этот вопрос, прямо относящийся к проблематике рецензируемой книги, требовал бы рассмотрения не только весьма любопытной литературной продукции первых лет Николаевского царствования, но и, скажем, таких важнейших для новой идеологической ситуации текстов, как манифесты Николая 1826 года (напомню, что в предыстории их создания важную роль сыграл Карамзин).