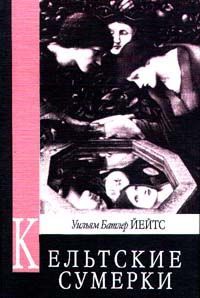Уильям Йейтс - Rosa alchemica

Обзор книги Уильям Йейтс - Rosa alchemica
Уильям Батлер Йейтс. Rosa alchemica
Сколь благословен и счастлив познавший таинства богов, освятивший жизнь свою и очистивший душу, справляющий оргии на горах, блюдя святую чистоту.
Еврипид *[1]
I
Тому уже больше десяти лет, как мне довелось в последний раз встретить Майкла Робартиса*[2]. Что до его друзей и собратьев по изысканиям, - та наша встреча была первой и последней. Мне суждено было стать свидетелем трагического их конца и пережить немало странного, и все это столь изменило меня, что писания мои утратили былую ясность, стали темны и невразумительны, а сам я едва ли не уподобился нравом св. Доминику. Я только что опубликовал Rosa Alchemica, небольшую работу об алхимиках, манерой своей несколько напоминающую сочинения сэра Томаса Брауна*[3], и получил множество писем от поклонников тайных наук, укоряющих меня за "робость", ибо они не могли поверить, что столь явное сочувствие их вере есть лишь сочувствие художника, которое сродни жалости, - сочувствие ко всему, что воспламеняет из века в век сердца человеческие. В ходе своих изысканий я обнаружил, что исповедуемая ими доктрина - вовсе не химическая фантазия, а целостная философия, охватывающая мироздание, стихии и человека; и если они стремились получить золото из неблагородных металлов, то для них это было лишь частью великой трансмутации, преображающей все сущее в божественную непреходящую субстанцию; постигнув это, я смог превратить свою книжицу в прихотливую грезу, повествующую о преображении жизни в искусство и в плач, что вызван безмерным стремлением достичь мироздания, состоящего из чистых сущностей.
Предаваясь мечтам о написанной книге, я сидел у себя дома, в старой части Дублина; благодаря моим предкам, игравшим не последнюю роль в политике города и водившим дружбу со знаменитыми людьми минувшей эпохи, дом этот стал чем-то вроде городской достопримечательности; я сидел, чувствуя непривычное умиротворение, ибо наконец-то воплотил давно лелеемый замысел и превратил мои комнаты в выражение столь любимой доктрины. Со стен были изгнаны портреты, представлявшие интерес скорее для историка, чем любителя искусств; двери я занавесил гобеленами, изображавшими павлинов*[4], чье оперение отливавало голубизной и бронзой, и они преграждали вход суете и злобе дня всему, что чуждо покою и красоте; и теперь, созерцая Богоматерь Кревелли*[5] и размышляя о розе в руке Девы, розе, чья форма была столь точна и изысканна, что скорее казалась запечатленной мыслью, чем цветком, и рассматривая на полотне Франчески*[6] серое сумеречное небо, на фоне которого лица пламенели восторгом, я знал все экстазы христианства - но без его рабского повиновения обычаю и традиции; когда я размышлял о древних богах и богинях, отлитых в бронзе, - мне пришлось заложить дом, чтобы купить их, - я испытывал языческое наслаждение бесконечным многообразием красоты - при этом свободный от языческого страха перед недремлющей суьбой и мысли о бесчисленных жертвах, призваных ее умиротворить; мне было достаточно подойти к книжной полке, где каждая книга одета в кожаный переплет с замысловатым тиснением, а цвет переплета тщательно подобран: Шекспир, облаченный в золотисто-красный цвет славы этого мира, Данте - в тускло-красный цвет гнева, Мильтон - в серо-голубой формального бесстрастия - я мог испытывать любую из человеческих страстей, не ведая при том ни горечи, ни пресыщения. Я окружил себя всеми богами, ибо ни в одного из богов не верил, я проживал все наслаждения, ибо ни одному из них не давал над собой власти, пребывая извне, - одинокая, неразрушимая монада, зеркало из полированной стали: захваченный победоносной силой этой фантазии, я босил взгляд на птиц Геры, мерцающих в отблесках камина, словно оперение их было создано из драгоценных камней; и моему сознанию, для которого символы были хлебом насущным, эти павлины предстали стражами моего мира, преграждающими доступ в него всему, что не проникнуто красотой столь же глубокой, как их красота; и на мгновение мне показалось, как казалось уже не раз, что возможна жизнь, лишенная горестей, кроме одной-единственной - горечи смерти; и тут же мысль, раз за разом неизбежно следовавшая за этим переживанием, наполнила меня мучительной скорбью.
Все эти формы: Мадонна, исполненная чистоты наивной и грустной, и восторженные лица, сияющие в свете утренней зари, и эти бронзовые божества, не ведающие ничего, кроме своего бесстрастного достоинства, - все эти образы, которые столь легко спугнуть, образы, проносящиеся в пространстве от одного отчаянья до другого, - все они принадлежат миру божественному, миру, в котором мне отказано; всякий опыт, сколь бы ни был он глубок, всякое восприятие, сколь бы ни было оно утончено и обостренно, будут дарить меня лишь горькой грезой о бесконечной энергии, которой мне никогда не причаститься, и даже в лучшие мои мгновения во мне будет два человека, один из которых тяжелым взглядом смотрит на мгновенные прозрения второго. Я окружил себя золотом, рожденным в чужих тиглях; но высшая мечта алхимика преображение истомленного сердца в не ведающий усталости дух - была так же далека от меня, как и от древнего адепта Великой науки. Я обернулся к своему последнему приобретению - алхимической печи, которая, как уверял меня продавец на улице Пелетье, в свое время принадлежала Раймонду Луллию, и, соединяя алембик с атанором, а рядом с ними водружая lavacrum maris*[7], я постиг, чему учили алхимики, утверждая, что все сущее, отделившееся от великой бездны, где блуждают духи, являясь одним во множестве и множеством в одном*[8], снедаемо бесконечным томлением; гордый своим всезнанием, я посочувствовал всепожирающей жажде разрушения, скрытой алхимиком под покровом символов: всех этих львов и драконов, орлов и воронов, росы и селитры, - стремлению обрести эссенцию, которая растворит все тленное. Я повторил про себя девятый ключ Василия Валентина, в котором он сравнивает пламя Судного Дня с алхимическим огнем*[9], а мир - с горном алхимика, и возвещает нам, что все, все должно раствориться, и лишь тогда божественная субстанция, материальное золото или нематериальный экстаз пробудятся ото сна*[10]. Я растворил смертный мир, я жил среди бессмертных сущностей, но так и не обрел чудесного экстаза.
Думая об этом, я откинул портьеру и устремил взгляд во тьму; моему взволнованному воображению представилось, что все эти маленькие точки света, усеявшие небо, - не что иное как горны неисчислимых божественных алхимиков, непрерывно вершащих свое делание, обращающих свинец в золото, усталость в экстаз, тьму - в Бога; и при виде их совершенной работы ощущение смертности тяжким грузом легло мне на плечи, и я заплакал, как плакали в нашем веке многие мечтатели и поэты, стеная о рождении совершенной духовной красоты, которая одна только и может возвысить души, отягощенные столь многими мечтами.
II
Грезу мою оборвал громкий стук в дверь, и тем странее было мне слышать его, что посетителей у меня не бывает, слугам же велено не шуметь, чтобы не спугнуть мои видения. Недоумевая, кто бы это мог быть, я решил сам открыть дверь и, взяв с каминной полки серебряный подсвечник, начал спускаться по лестнице. Слуги, видимо, вышли в город, ибо, хотя стук разносился по всему дому, в нижних комнатах не слышалось никакого движения. Я вспомнил, что прислуга уже давно приходит и уходит по собственному усмотрению, на много часов оставляя меня одного, ибо нужды мои ограничены немногим, а участие в жизни - ничтожно. Пустота и безмолвие этого мира, из которого я изгнал все, кроме снов, внезапно ошеломили меня, и, открывая засов, я вздрогнул.
За дверью я обнаружил Майкла Робартиса, которого не видел уже долгие годы. Непокорная рыжая шевелюра, неистовый взгляд, чувственные нервные губы и грубое платье - весь его облик был таким же, как и пятнадцать лет назад: нечто среднее между отчаянным гулякой, святым и крестьянином. Он объявил мне, что только что прибыл в Ирландию и хотел увидеться со мной, ибо у него есть ко мне дело - дело, крайне важное для нас обоих. Его голос отбросил меня во времена студенческих лет в Париже, напомнив о магнетической власти, которой обладал надо мной этот человек; к неясному чувству страха примешивалась изрядная доля досады, вызванная неуместностью вторжения, покуда, освещая путь гостю, я поднимался по широкой лестнице - той самой, по которой когда-то всходили Свифт - балагуря и бранясь, и Каран - рассказывая истории и пересыпая свой рассказ греческими цитатами - в стародавние времена, когда все было проще, когда знать не знали чувствительности и усложненности, привнесенных романтиками от искусства и литературы, и не трепетали на краю некоего невообразимого откровения.