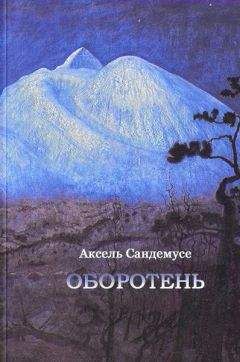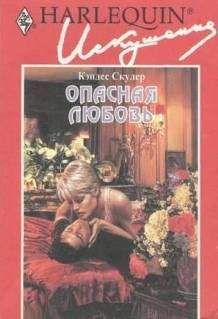Аксель Сандемусе - Былое — это сон
Образ юной Сусанны, читающей Ландквиста и делающей глубокомысленные пометки, преследовал меня. Мне казалось, я вдруг понял все — юная девушка, мечтающая о великих делах, идеал, требующий возрождения, вечные истины, обсуждавшиеся на студенческих квартирах, и друзья, друзья до гробовой доски! Но друзья знали, что это только слова, а Сусанна все принимала за чистую монету. Она потерпела крушение, вот когда она потерпела крушение! Потом она вышла замуж за Гюннера, все считали, что он ее спас, ведь этого никто не ожидал. Теперь-то Сусанна наконец будет счастлива!
Бедный Гюннер, он и не подозревал, что спасает кого-то, он и не хотел спасать, он просто любил Сусанну. Но ее мечта, которая не могла осуществиться, витала в воздухе и, как медленный яд, смешивалась с подпольным миром поэта Гюннера Гюннерсена, а между ними стоял Трюггве.
Почему я тогда же не вышел из игры? Еще было не поздно. Как объяснил бы Гюннер, отчего я этого не сделал, ведь он исследовал иррациональные поступки людей?
Надо было уйти, тут же уйти из их дома и больше никогда с ними не встречаться. Тогда в моей жизни был бы хоть один добрый поступок. Но я остался и думал только о том, что я горячо люблю ее, что мы с ней обретем счастье и будем вместе до конца наших дней.
Я еще мог сделать добро самому себе. Сделать добро Сусанне. Я мог бы сказать: «Одумайся, Сусанна! Пока вы живы, вы с Гюннером должны быть вместе, не будь слепой!»
Но я сам был слеп и не мог быть поводырем слепого. В ту ночь я ушел последний, мы с Сусанной уединились в спальне, а Гюннер без чувств лежал на диване в гостиной.
В Осло я принимал участие во многих вакханалиях. Все они были похожи одна на другую. Люди пустились во все тяжкие оттого, что весь мир пустился во все тяжкие, и, мне кажется, наивно объяснять это только военным психозом. Безудержное пьянство — феномен не новый. Девяносто пять жертв из ста сгорают в этом вечном чистилище, но пять вырываются из него, чтобы написать «De Profundis»[41]. Им удается сохранить высокое и доброе, а иначе они и не смогли бы вырваться оттуда живыми.
Что значит пить? Почему пьет тот или другой? Они хотят заглушить страх. Я никогда не видел, чтобы люди пили так, как Сусанна, Гюннер и все, кого я узнал через них. Они пили как верблюды, но не могли, как верблюды, напиться на неделю вперед. Они не переставали пить, если знали, что в запасе есть еще хоть одна бутылка; я сам видел, как Гюннер у меня в отеле поднялся с дивана, растрепанный, со слипавшимися глазами, и приставил к губам бутылку коньяка, которую нашел ощупью, точно ребенок материнский сосок.
Чего они боялись?
Мне известно только, чего боялся я сам и какой борьбы мне стоило отставить рюмку. В Осло я часто напивался. Здесь, в Сан-Франциско, нельзя показываться в таком виде.
Когда я последним покидал дом Гюннера, под ногами хрустели осколки рюмок, на потолке темнели винные пятна, а по коридору разлилась кровавая лужа, — один из гостей что-то сказал перед уходом, и ему разбили нос. Сусанна весьма невразумительно объяснила мне это, она шаталась и была в великолепном настроении. Иначе и быть не могло, — выпив, она становилась очаровательной. Она распевала во весь голос, стоя надо мной на лестнице:
Зовут местечко Урен,
Живет в местечке дурень!
Да-а, вот я и рассказал тебе, как закончился тот вечер, теперь тебе не придется гадать об этом.
Знаешь, какая иллюзия возникла у меня, когда я стоял и читал пометки юной Сусанны, сделанные на полях Юна Ландквиста? Что, уехав с ней в Копенгаген, я им обоим дам возможность отдохнуть друг от друга. Я не хотел причинять Гюннеру боль, но вся история с их разводом была какая-то темная. Сусанна отвратительно обходилась с Гюннером. Иногда это до глубины души возмущало меня. Только потом я догадался, что она сознательно доводила его до срыва, чтобы оставить за собой и дом и Гюллан. Сперва мне казалось, что так получается просто потому, что она запуталась, а в таких случаях человек часто ведет себя… да, именно иррационально.
Однажды, очень давно, Гюннер хотел куда-то съездить один и намекнул ей об этом.
— Прекрасно, — горячо подхватила Сусанна. — А куда мы поедем?
Он не сумел устранить недоразумение, но считал, что оно-то и отдалило их друг от друга.
В тот вечер в его доме мне вспомнился этот эпизод. Должен же Гюннер иметь возможность хоть иногда побыть в одиночестве.
Смешно, конечно. Если ты когда-нибудь проявишь благородство, поразмысли потом, что ты хотел на этом выиграть. Влюбленные обманываются, да и как им не обманываться, если они думают сердцем, а не головой.
За столом один пожилой писатель вдруг начал раздеваться, меня это заинтересовало. Он говорил, зажав зубами трубку:
— Сейчас вы увидите, этот Ранкен сущий убийца! Клянусь вам, он убийца, сейчас, сейчас!
Он сдернул с себя жилетку, галстук, стянул через голову рубаху. За ней последовала шерстяная фуфайка в красную полоску.
— Смотрите! — торжествуя, закричал он. — Что я вам говорил? Ну, кто прав?
На левом боку у него была рана, покрытая коричневым струпом.
— Может, скажете, не убийца? — Он выпрямился, и брюки упали у него до колен. — Проклятый убийца!
Трюггве, сидевший в уголке, встал и подошел поближе, он во все глаза глядел на голого гостя.
— Садись, Трюггве! — приказал Гюннер, икая от смеха.
Писатель стал натягивать брюки:
— Мы с этим Ранкеном гуляли в Аскере по валу, он рассказывал про книгу, которую задумал написать. «Девушка с бархатными глазами». Так за разговором мы подошли к большому плоскому камню. Он мне и говорит: «Ложись на камень!» — «Что? — говорю. — Зачем это ложиться?» Но не успел я и глазом моргнуть, как он дал мне по роже, я упал, и он стал втаскивать меня на камень. Я отбивался изо всех сил. Потом он вытащил из футляра нож, я заорал как сумасшедший, а он всадил мне нож прямо в бок — вот сюда!
Писатель торжественно показывал рану.
— К счастью, подоспел народ, но Ранкен не желал сдаваться без боя, поднялась страшная возня, его долго не удавалось утихомирить.
Гости корчились от смеха. Я уже слышал об этой истории, да и газеты посвятили ей несколько строчек, но ни у кого не создалось впечатления, что имело место покушение на убийство.
— Он хотел принести меня в жертву! — кричал писатель, дико озираясь по сторонам. — На плоском камне! Хотел положить меня на камень и выпустить мне кишки или черт знает, как там это делается. А вы говорите, он умный! Неужели нельзя было взять курицу, или кошку, или барсука, или воробья? Какого черта именно меня он решил принести в жертву своим идиотским богам?
Мне хотелось расспросить его поподробнее, но наступил черед анекдотов, и я так и не узнал подробностей жертвоприношения. Дамы поглядывали на часы, было уже за полночь, дома у всех были дети, но мужчины, налив себе еще виски с содовой, наслаждались анекдотами. Тогда дамы поднялись, вызвали по телефону такси и укатили. Анекдоты не иссякали. Я огляделся, ища глазами Сусанну. Ее нигде не было, Трюггве тоже. Я подошел к ванной, дверь была открыта. Она стояла там и мыла Трюггве лицо и руки, он вел себя как послушный ребенок. Чисти зубы! И Трюггве послушно почистил зубы. А Теперь в постель!
Трюггве поплелся, шаркая башмаками.
Я стоял в дверях и разговаривал с Сусанной, пока она переодевалась; лучше было бы войти в комнату — я буду выглядеть странно, если кто-нибудь увидит меня сейчас. Сусанна надела пижаму.
— Жарко, — объяснила она и пошла за мной к гостям.
Взгляд Гюннера скользнул по ней, по моему лицу и остановился на рассказчике. Тогда во мне первый раз шевельнулось чувство, что Сусанна недостаточно знает своего мужа. Этот беглый взгляд поведал мне о Гюннере Гюннерсене больше, чем я к тому времени знал о нем. Но я уже говорил тебе, что обезумел окончательно. Я вбил себе в голову, что все будет легко и просто.
Кто-то попытался посадить Сусанну к себе на колени, она высвободилась с королевским видом. Гюннер без всякого выражения смотрел на нее; помню, он сказал:
— Газеты изменили лицо литературы. Им требуется то, что понятно сотням тысяч, а жить-то надо. Вот мы и учимся газетному искусству. То, что мы пишем по-настоящему, какой-нибудь профессор издаст через тридцать лет, он это прокомментирует и преподнесет так, чтобы оно, прости мне господи, тоже годилось для газет. Теперь писателю требуется больше выносливости, чем когда бы то ни было за всю историю мира.
Сусанна фыркнула. Он холодно взглянул на нее и сказал, ни к кому не обращаясь:
— Безнадежно, безнадежно! Прежде писатель раскрывался, обнажал свою душу. Его читали немногие, лишь те, кто его понимал. Другие не могли. А сейчас, если он не придерживается избитых образцов, на него обрушиваются и братья-писатели и газеты.
Теперь Гюннер пристально смотрел на Сусанну, он был пьян. И начал читать стихотворение, которое я привел выше, написанное ей много лет назад. Оно как будто уже не относилось к ней, и в чтении Гюннера был какой-то низкий умысел, что-то понятное только им двоим. Сусанна осушила рюмку.