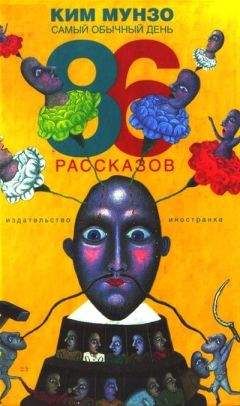Геннадий Головин - День рождения покойника
Письмо к Эльвире, незаконченное на рассуждениях о высоком журавле, он запрятал в самые низы письменного стола, перечитать побоявшись. Если и вспоминал, то вспоминал с некоей опаской и неловкостью — как вспоминают поутру о пьяных нараспашку вечерних откровениях перед случайными людьми.
Но и некоторое ободрение изыскивал он в воспоминании этом: «Ах, как писалось-то лихо! Как душа-то навыворот выворачивалась! Может, и вправду не опустела эта чернильница… как говорится?»
Письмишко он ей все же нацарапал.
Извинился за почерк. Скупо упомянул о писчей судороге. (Кто хотел, тот без труда должен был понять, сколь изнурительна писательская жизнь.) «Фотографию посылаю без автографа, — написал он. — Даст бог, с рукой уладится, тогда пришлю настоящий свой портрет, где я и умный, и красивый и надпись сочиню к тому времени афористическую. А сейчас, простите, расстроен: столько было планов! столько задумок, довольно забавных! А тут — такая оказия! А Вы, Эльвира, пишите! Я уже привык к Вашим милым письмам!»
Грустная и злая правда, которую он посмел сказать о себе в наполовину написанном письме, уже не могла, единожды изреченная, не жить в нем.
Все чаще, хоть и на краткие миги, черно вспыхивало в душе горделивое горькое чувство человека, который сжег за собой все мосты, который перечеркнул — наотмашь, жирным крестом — прошлое свое.
Но — именно здесь — начиналась Надежда.
Именно в эти черные миги начиналось странное, некое трепетание в сердце, порывание куда-то, восторг нелепый.
Разливанной тяжкой дурнотой, слабеньким дрожанием в членах заканчивались эти черные восторги, но…
но успевала иной раз вспыхнуть стереоскопическая предгрозовая ясность во всем, на кратенький миг успевало сделаться все — до изумления простым, понятным, связным! и главное, успевало почудиться, чудилось, что нет уже никакого секрета, как, какими словами, каким тоном рассказать миру о том, каков он на самом-то деле, этот мир!
Иной раз он даже отчетливо видел как бы вспыхивающие перед взором, уже написанные строки. Они были совершенны, он понимал это вполне, но, отчетливо начертанные, начертаны они были на чужом еще языке. Доступны были созерцанию, но внутрь сущности своей не допускали. Еще не допускали.
Чувство голодного раздражения, чувство бессилия оставляли по себе эти мучительные порывания. Но в этом не было окончательной безнадежности. Казалось, что это и не бессилие вовсе, а просто-напросто еще непреодоленное неумение.
И что-то чрезвычайно ободряющее было в том, что золотые те письмена являются его взору с неторопливо нарастающей частотой и постоянством.
Стоит ли особо удивляться, что день ото дня ощущал себя Антон Павлович личностью, как бы сказать, все более значительной, строго устремленной куда-то, приобщенной.
И все чаще ему казалось: стоит чуть-чуть лишь усилиться мыслью, надсадиться еще на самую малость воображением, и — сумеет продраться он сквозь тупую препону словесной своей слепонемоты! — постигнет наконец!
А ведь не забывайте, что тихим своим чередом шло и обыкновенное житье-житьишко Жужикова: складывание-перекладывание с места на место неважнецких сюжетиков, многодумное обмусоливание копеечных мыслишек, рассматривание словечек обтерханных — унылое, так сказать, копание в бедняцком сундучишке своем, в ветхой рухляди, тяжко скопленной за многие годы… И вот это разительное, разящее противосуществование в нем одновременно и Мастера, как бы почти уже осязающего, как до́лжно писать, и все того же мелкокалиберного автора «путей-дорог», «трав повилик» и березок, выбегающих на опушки, как стаи девчушек, — вот это одновременное, враздрай их существование прямо-таки изжигало теперь Антона Павловича, бесило, лихорадило.
Иногда ему казалось, что он таки сойдет с ума.
Никогда, никого, ни при каких обстоятельствах Жужиков раньше не судил. И уж тем более вслух.
А за эти два месяца пристрастился чуть что мину изображать пренебрежительную, сварливую привычку поимел по всякому поводу изрекать: «Ложь! Вранье!» — и даже картинно содрогаться при этом, как ребенок, претерпевающий желание малой нужды.
Однажды битый час бегал по дорожке своей — от сарая к калитке — и, выделывая руками, беззвучно орал бедной безответной деве Эльвире целый, можно сказать, трактат на эту тему. Послушать его, получалось, что мир современности весь как есть насквозь отравлен враньем и ложью, как выхлопными газами, что чем дальше, тем больше нечем дышать честному человеку, что ложь и вранье так уж пропитали собой все, что даже и дети уже рождаются с наследственной ложью в крови, что, куда ни плюнь, везде вранье, липа, лживая подмена одного другим, что человечеству поставлены ложные цели, указаны лживые пути, внушены лживые средства, что человечеству ничего, кроме гибели, не остается, ибо оно обречено, подобно зараженному саду, в каждой цветочной почке которого уже зреют яйца цветоеда…
Разумеется, что все эти горе-аргументы долженствовали оправдать несостоятельность жизненной позиции самого горе-оратора. Из них должен был плавно вытекать вот какой вывод: не отсутствие таланта как такового является причиной неталантливости жужиковских произведений, а, говоря по-старинному, «среда заела» молодого Антошу Жужикова. В атмосфере лжи и вранья — должна была догадаться Эльвира — все лучшее, что было в жужиковском даровании, усохло, скукожилось, а то и просто подверглось редакторскому усекновению, а осталось цвесть пустоцветом лишь то немногое, что не противоречило законам лжи и вранья, которые, если поверить Антону Павловичу, царили и царят в этом не самом лучшем из миров…
Особенно не терпел теперь Антон Павлович Жужиков слышать похвалы в чей-нибудь из братьев по перу адрес. Тут он и вовсе морщился, как таракана скушавши. И даже во всеуслышание ехидное шипение полюбил издавать.
Причем в шипении своем не делал никакого различия: вверх ли, вниз ли, или просто соседу по буфетной очереди адресованы те похвалы.
Добром, понятно, это кончиться не могло. Добром и не кончилось.
…В день, когда мы вновь возвращаемся к нашему герою, Жужиков по пустячному какому-то делу оказался на Воровского. Шел по коридорчику и — черт его дернул! — остановился на чей-то оклик.
Подошел. Стояли кучкой. Хоть и хранили на лицах отсвет некоей иронии, однако, вполне добросовестно слушали переводчика с суахили, известного добровольца-аллилуйщика и выдающегося борца за признание начальственных заслуг в области литературы и искусства.
На сей раз он разливался по поводу эпопеи, сочиненной большим — больше некуда! — начальником Н.
Жужиков, как и почти всегда в последнее время, пребывал в состоянии духа нервическом. Послушал, что глаголет переводчик, даже и тени смущения не допуская на лицо, — и вдруг аж заколотился, как в лихорадке.
— Дерьмо! — сказал отчетливо.
Все стали бледные.
— ??! — изумился переводчик. И вправду, можно ли было всерьез поверить, что это не обман слуха?
— Дерьмо! — повторил Антон Павлович, отчетливо чувствуя, как у него поплыла из-под ног земля, горячо загудело в голове и задрожало в лице. (С радостным ужасом понял: «Вот оно! Схожу с ума!»)
— Блевотина! Барин обожрался мармеладу… — подумал, чего еще мог обожраться барин, и неожиданно добавил: —…и рыхлых драчен и вот — выблевал! Вам на восхищение! Литературой (как вы говорите) здесь и не пахнет. А если пахнет, то у этой литературы — запах дерьма!
Повернулся и побежал к выходу.
VIIВсю дорогу до вокзала его по-настоящему, крупной дрожью било от ужаса содеянного им. В метро на него даже оглядывались.
Но дрожь эта, как бы точнее сказать, сотрясала только одного из Жужиковых, прежнего. А другой — испытывал великолепную, сияющую злость в эти минуты и восхищение.
«Теперь только так! — повторял он с нервно дрожащей, жалкой усмешечкой. — Теперь только так! А там — будь что будет!»
У него было явственное ощущение, что он с превеликим преодолением протиснулся сквозь какую-то узость и — наконец-то! — оказался в месте чистом, месте просторном.
Но, признаться, ужасно непривычно, зыбко и зябко (хоть и легко, но совсем еще не радостно) было Жужикову в месте этом.
…Сидя в полупустом раскаленном вагоне электрички, он с удивлением слушал, как изможденно ноют, нудно гудят все мышцы его: и спина, и шея, и в особенности плечи и руки выше локтей. Как после неимоверно тяжелой грузчицкой работы.
«Каких, оказывается, усилий стоит сказать о дерьме: „Дерьмо“!»
Поезд тронулся.
Поплыла за окнами, обстоятельно разворачиваясь и кружась, скучная заунывно-пыльная бестолочь железнодорожного пейзажа, зло залитая белесым солнцем. Во всякое время года пейзаж этот вызывал в Жужикове что-то вроде горлового удушья.