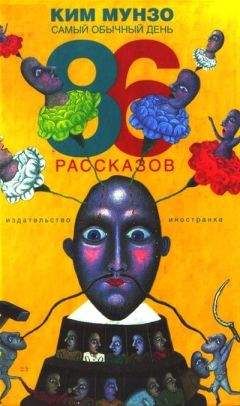Геннадий Головин - День рождения покойника
«…Я боюсь, что я представляюсь Вам какой-нибудь полунормальной без меры восторженной старой девой, которая от нечего делать выбрала себе предмет для обожания и — знай себе! — обожает издали, без всякого риска показать свое истинное лицо. Ей-богу, Антон Павлович, я не такая! Вот вам, в доказательство, моя фотка, чтоб Вы не подумали, что я какая-нибудь уродина. А интересно, какой Вы себе представляли меня? Только честно…»
Господи! Какое дивное лицо глянуло на него со снимка!
Его даже холодком продрало: вот именно эта прекрасная молодая женщина пишет ему восторженные письма?!
На него глядело одно из тех нежных, слабо и грустно как бы светящихся изнутри женских лиц, которые мгновенно и жадно рождают доверие к себе, восхищенную растроганность и быстрое желание что-то предпринять — в себе ли, в мире ли, чтобы никогда не исказилось этакое чудо-лицо гримасой невзгоды какой-то, беды, боли!
Воровское и суетливое проглядывало в жестах Жужикова, когда, наглядевшись, он поставил фотографию сначала перед собой на письменном столе, потом, передумав, стал запрятывать в книжку, лежавшую тут же, а затем — упокоил в полувыдвинутом ящике стола, таким образом полузакидав фотографию листами бумаги, чтобы, глянув, не составляло труда тотчас увидеть большую часть этого дивного лица.
Детская опаска, что вот сейчас спохватятся и отымут, догадавшись, что не по чину ему, не по его ничтожеству владеть столь драгоценной вещью, — овладела им!
В письме она просила — если не сочтет он ее просьбу наглостью, если есть хоть одна, пусть завалященькая, фотка — прислать и ей свое изображение лица.
С большой озабоченностью Антон Павлович перебрал пяток-другой обнаружившихся у него фотографий, но все они были вот именно «завалященькие»: везде Жужиков вид имел пришибленный, как в сумрачную воду опущенный.
Он специально съездил в Москву, разыскал полузнакомого фотографа — красноликого, с виновато трясущимися руками еще довольно молодого человека. Испросив авансу, тот сразу же сбегал в магазин и затем часа три, не меньше, фотографировал Жужикова, приговаривая сначала: «Усё будет в лучшем виде!», а потом (после третьего стакана): «Не фокус навести на фокус, фокус — деньги получить!»
Дня два после этой поездки Антон Павлович прожил в беспокойстве: получится или не получится?
Получилось — «в лучшем виде». Не зря тот красноликий фотомастер был когда-то лауреатом каких-то там бьеннале. Жужиков на снимках выглядел страстотерпцем, изнуренным, но еще и полным сил искателем истины — человечным, многодумным, что-то этакое носящим в себе, что-то этакое в области духа обещающим.
Он всматривался в свое лицо с удивлением, даже с опасливым ожиданием: неимоверность некую, глубь, мудрую горечь прозревал он в этом человеке…
Иногда — но не чересчур часто! — он ставил фотографии рядом — Антона Павловича и Эльвиры — без особенной какой-нибудь мысли, просто так будто бы… с единственным будто бы желанием еще разок испытать довольство от того, что два эти лица не опровергают друг друга.
Только, ради бога, не надо сразу думать, что ему что-нибудь этакое, как бы сказать, амурное вообразилось! Может быть, конечно, и вообразилось, но — как смутное вероятие, очень смутное, как фигура сочинительства.
Впрочем, не скроем и того обстоятельства, что ощущение приторно-мутного угара, который время от времени заволакивал голову, заставлял вдруг скромно бесноваться, раздражаться, места себе не находя, разражаться ни с того ни с сего бессловесными тирадами в ее адрес… — вот это угарное ощущение, честно отметим, очень напоминало ему те две-три главки из биографии, когда он бывал влюблен, что называется, без ума.
Не скоро ответил он на это письмо.
Не терпелось конечно же поскорее переправить в Чуркино и свой портрет, но письмо, увы, все никак не складывалось.
Те бессловесные тирады, которыми он, как сказано, разражался в адрес Эльвиры, как по камере вышагивая по саду от калитки до сарая, — те тирады были столь чрезмерно возвышенны, столь смешно-старомодны и пылки, столь беззастенчивы по отношению к себе, что он, даже он в помраченном своем состоянии понимал: нельзя, невпопад писать ей сейчас такие письма.
…Однажды сорвался с хождения своего между сараем и калиткой, вбежал сломя голову в дом, бросился к бумаге!
«Горе! — написал он. — Какое горе, милая Эльвира! Какая мука: читать Ваши трогательные письма, смотреть на Ваше дивное лицо и знать, что все это — не мне! Да, да! Не мне, а кому-то другому, который неведомо как и зачем вообразился Вам! А главное — со всей жестокостью той правды, которую я знаю само себе, признавать, что я уже ничего не в силах сделать, чтобы стать вровень с тем — воображенным! — которому Вы пишете свои письма, которому прислали свой прекрасный портрет, к которому обращены Ваши такие наивные и пылкие похвалы!
Я не знаю, один ли я виноват в этом, но я — нынче — это серое убогое ничтожество. Как называет дочь: Акакий Акакиевич по ведомству русской литературы. Может быть, единственное мое достоинство (настоящее), что я вполне осознаю это… Мне иной раз чудится насмешка в Ваших, таких трогательных, восторгах по поводу моих сочинений. Нет, конечно, я знаю, что это не так (да и зачем Вам это?). Но от этого еще горше осознавать мне свою Вину, читая Ваши похвалы моим беспомощным опусам. Свою ужасную вину я вижу в невольном… (но почему же в „невольном“? — вольном! — нет-нет, скорее: безвольном) участии в том негодяйском разрушении и унижении Великой русской литературы, которые длятся не один уже десяток лет. Ведь, если Вы вполне искренне восхищаетесь написанным мной, то (простите, ради бога!) это говорит о том, насколько занижен — катастрофически!!! — уровень восприятия Вами литературы, насколько искажено понимание того, что в литературе хорошо, что средне, а что — ниже среднего! А Вы восхищаетесь Жужиковым… Я-то ведь знаю (и с полной откровенностью говорю Вам об этом): мой уровень далеко ниже среднего.
Какое горе для меня, что Вы появились в моей судьбе так поздно! Какое трагическое, ничем не восполнимое пространство лет между нами! Ах, если бы Вы явились мне 20, 30 лет назад! Может быть (да наверняка!), я был бы другим теперь, стал другим. Я не истратил бы эти тридцать лет так бездарно, так гнусно, так безответственно. Передо мной всегда стояло бы Ваше такое прекрасное лицо, на меня глядели бы Ваши такие строгие и нежные глаза… и я ни за что не позволил бы себе (уверен!) растрачивать свою жизнь, свою единственную, последнюю жизнь на жалкое и унизительное блуждание по редакционным коридорчикам, на выхлопатывание грошовых, унизительных похвал ничтожных (и в сущности, таких же жалких, как я) людей… на пристраивание — абы только напечатали! — позорных своих сочинений, — в общем, на все то, что и составляет нынешнюю подлую жизнь российского литератора. Я был бы другим! О! Я был бы горд, горек, независим! Я вкалывал бы над письменным столом — как шахтер в забое — ожесточенно, упорно, яростно! Я — добился бы! Нет, не известности, не благополучия… Я добился бы главного: чтобы имя мое произносили с уважительностью! Не с той мнимой уважительностью, с какой произносят ныне имена тех, кто всеми правдами и… (нет, не правдами, а всегда одними лишь неправдами — о себе и о других!) всполз наверх, попирая других. О нет! Не так произносилось бы мое имя… Обо мне говорили бы — и друзья, и враги — так, как говорят о Мастере, который жил и живет без укоризны, который честен как русский писатель, который ни единого раза даже возможности для себя не допустил прельститься синицей сиюминутного успеха в ущерб высокому журавлю…» —
тут случилось с Жужиковым ужасное!
Быстрая карающая боль вломилась в кисть его торопливо пишущей руки. Слабенькое сплетеньице субтильных косточек, тоненьких сухожилий, сухощавеньких волоконец — вдруг мгновенно скрючилось (Жужиков с досадливой болью вскрикнул), затем пружинно растопорщилось, и карандаш вылетел из руки — как выстрелил! — в сторону, с тощим стуком покатился затем по полу…
Должно быть, Антон Павлович чересчур уж заспешил в письме. Должно быть, не стерпела писательская длань, привыкшая к медленным, ленивым каракулям, столь оголтелой скорописи.
Назавтра врач объяснил ему, что явление это называется «писчая судорога», волноваться в общем-то нечего, у пишущей братии такое нередко бывает, у Льва Николаевича, к примеру, частенько случалось…
Жужиков, натурально, возгордился. Руку теперь, как Керенский, носить стал за отворотом пиджака.
«Не вовремя как… с рукой-то!» — жаловался он время от времени сам себе, подразумевая, видимо, что, не будь этой клятой судороги, творческий процесс уже давным-давно несся на всех парах и парусах.