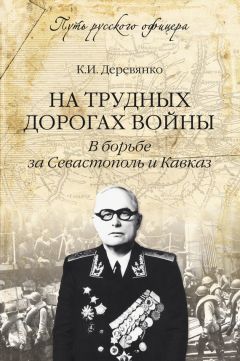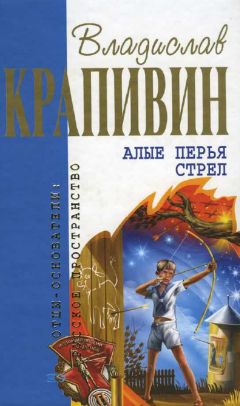Перья - Беэр Хаим
— И тогда, сыны блуда, моя кровь падет на ваши головы!
Возле аптеки «Рухама», первой в ряду торговых заведений, располагавшихся под квартирой раввина Нисима, совещались между собой офицеры полиции и врачи в белых халатах. Один из врачей отделился от группы и поднялся по ступеням к входу в аптеку.
— Пошел звонить в дурдом в Нес-Циону, — сообщил человек, которому удалось подслушать беседу полицейского начальства и медиков. — Хотят узнать о нем побольше деталей.
— В пустыне поклонились вы золотому тельцу! — кричал Ледер, на которого снова снизошел дух пророчества. — А здесь вы поклоняетесь своей возлюбленной La vache qui rit!
Размахивая круглой коробкой, в которую укладывались треугольники популярного французского сыра, он бегал по периметру крыши, желая удостовериться, что пожарная машина убрала раздвижную лестницу.
— Подобны прочим народам сыны Израилевы, точно так же поклонились они пищевому тельцу, а мать его ныне взирает на них с этикеток и хохочет во всю свою морду! [407]
Голос Ледера становился все более хриплым, а звучавшие из его уст инвективы избыточному потреблению и дифирамбы линкеусанскому государству — все более путаными. Даже и я, будучи обстоятельно знаком с доктриной продовольственной армии, уже не мог уследить за потоком его сознания.
— Вот божество твое, Израиль!
С этими словами вконец охрипший Ледер драматическим жестом сорвал одеяло с того, что выглядело до сих пор как еще одна водосборная бочка. Оказалось, однако, что это огромная кукла в виде тельца, собранная из скрепленных проволокой и бечевкой подушек разной величины. На шею тельца вместо ожидаемой веревки с колокольчиком было надето ожерелье, бусинами которого служили колбасы, треугольники сыра, булочки с маком и бутылки с горячительными напитками.
Из толпы раздался презрительный свист. От дома Гурского ребе подоспели несколько хасидов-крепышей — этаких казаков, окружавших обычно своего атамана. Быстро сориентировавшись в происходящем, они потребовали прекратить публичное богохульство.
— Клик ликования слышу? [408] — насмешливо спросил Ледер, приставив к уху сложенную рупором ладонь. — Ну так будет сие вам знамением!
С этими словами он поднял над головой канистру с керосином и вылил ее содержимое на огромную подушечную куклу. На стоявших внизу людей попало несколько капель, и они отскочили от здания, а Ледер, бросив долгий прощальный взгляд на своего тельца, поднес к нему горящую спичку.
Куклу объяло пламя, над ней заклубился дым. Чехлы подушек быстро сгорели, за ними занялись перья, и по улице стал расползаться такой же отвратительный запах, какой заполнил пять лет назад квартиру супругов Рингель.
Возившиеся с лестницами пожарные взялись за новое дело: теперь они поспешно раскатывали по мостовой брезентовые шланги, округлившиеся, когда их заполнила вода. Завершив эти приготовления, пожарные направили брандспойты на крышу, но кранов не открывали, ожидая распоряжений старшего полицейского чина. Тот указаний пока не давал и о чем-то шептался со звонившим в Нес-Циону врачом, в котором люди уже узнали известного психиатра.
Приложив одну ладонь к глазам козырьком, а другую свернув наподобие подзорной трубы, врач стал разглядывать Ледера, который тем временем продолжал поливать керосином пылавшую подушечную куклу. Одна из бутылок в ее ожерелье лопнула, и на пожарных посыпались дождем мелкие осколки зеленого стекла.
— Мордехай, дорогой Мордехай! — воскликнул психиатр, обращаясь к безумцу, который, стоя на крыше высокого здания, творил свою волю в растерявшемся городе. — Поппер-Линкеус был замечательным человеком, и я тоже испытываю к нему полнейший респект!
Но Ледер лишь посмеялся над этой жалкой попыткой найти путь к его сердцу. Теперь он снова размахивал зеленым флагом продовольственной армии, раздувая пламя, пожиравшее перья и колбасу. Только он, он один был верным последователем великого мыслителя в этой одержимой обжорством стране.
— Не бойтесь, доктор! — успокоил Ледер явно пребывавшего в замешательстве врача. — Я предостерег народ, и теперь слезу отсюда без ваших угроз и спокойно отправлюсь домой.
Взмахнув флагом в последний раз, он отдал честь стоявшим внизу офицерам и скрылся за водосборными бочками. В ту же секунду полицейский начальник подал сигнал пожарным, и те направили на крышу струи воды, заодно намочив оказавшихся под ними зевак. Сам начальник устремился в подъезд, за ним поспешили несколько его подчиненных, врачи, санитары. Через короткое время вся эта команда вышла обратно на улицу и вывела с собой Ледера, которого крепко держали рослые санитары. В дверном проеме Ледер остановился, коротко поклонился публике и выпрямился. В этот миг прямо над головой у него оказалась пара зеленых бычьих рогов, прикрепленных к решетке замкового камня бухарским домовладельцем. Обращенные остриями вверх, рога словно бодались с хлопьями сажи и обгоревшими перьями, слетавшими на них с крыши в знойном полуденном воздухе.
Примерно полгода спустя, в один из дней месяца хешван [409], когда в воздухе уже ощущалась прохлада близкой зимы, движение транспорта возле этого дома вновь прервалось, и опять из-за Ледера. Черная машина погребального братства, направлявшаяся от больницы «Авихаиль» на кладбище в Гиват-Шауль, ненадолго остановилась у дома покойного, дабы оказать последнюю милость скончавшемуся одиноким человеку.
Возле катафалка собралась небольшая группа людей: соседки, владельцы расположенных неподалеку магазинов, случайные прохожие. Могильщики открыли двери машины, но не стали выставлять носилки с телом Ледера на мостовую, когда реб Мотес произносил известные всем слова Акавии бен Меѓалалеля о трех вещах, которые человек должен постоянно помнить, дабы не оказаться во власти греха. Снизив голос при упоминании «пахучей капли», из которой рождается человек, он, напротив, заливисто и громко напел дальнейшее — о неизбежном для всякого смертного схождении «в место гниения и тлена» и о суде, на котором человеку предстоит дать ответ «пред Царем над царями царей, Святым, благословен Он» [410]. Риклин быстро произнес кадиш, и могильщики, вернувшись в машину, продолжили свой путь.
Зажатый между Риклином и одним из молодых могильщиков, я невольно касался ногой лежавших на грязном полу машины лопат и мотыги. Кислый запах пота сидевших рядом со мной бородачей смешивался с запахом льняного савана. Машина быстро ехала по улицам Иерусалима. Я захотел открыть окно у себя за спиной, но сидевший напротив меня, по другую сторону завернутого в саван тела, реб Мотес сказал, что от сквозняка у него случится простуда, и тогда он прохворает всю зиму.
Могильщики то и дело повторяли нараспев: «И да будет на нас благоволение Господа, Бога нашего, и дело рук наших утверди» [411]. Они смотрели прямо перед собой, как будто сквозь перегородку, а я не мог отвести глаза от завернутого в саван и покрытого талитом мертвого тела, которое качалось в кожаных носилках, словно младенец в колыбели, и пытался представить себе Ледера живым. На поворотах и на западном подъеме к Гиват-Шаулю по старой римской дороге мертвый Ледер почти касался бедром моего колена. Никогда прежде я не находился в такой близости от смерти.
У могильной ямы носилки поставили на землю. Реб Мотес, старший помощник Риклина, осмотрел склон и остановил свой взгляд на каменном склепе над могилой каббалиста рава Ашлага, автора комментария «Судам» к книге «Зоѓар». Своими очертаниями склеп напоминал древнее строение над гробницей праматери Рахели.
— А центнер, Сруль-Ошер! — прокричал реб Мотес, приглашая кого-то стать десятым в нашем миньяне.
С возвышавшихся к северу от нас гор земли Биньяминовой, на которых в дни Йеѓошуа Бин-Нуна проживали гивонитяне [412], эхом прокатилось в ответ «ошер-ошер-ошер». Из сводчатого входа в склеп показался молодой человек, одетый в халат в желтую и белую полоску. Исраэль-Ашер — так его звали — быстро направился к нам. Он ловко перескакивал между могилами с камня на камень, придерживая руками полы своего халата, из-под которых выглядывали белые штаны.