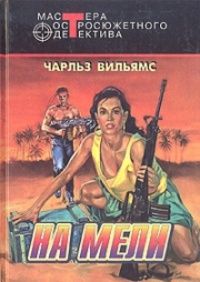Чарльз Буковски - Истории обыкновенного безумия
— Тигр, сукин сын, я же сказала: медленно.
Мы еще немного поговорили. Потом она сказала:
— Видишь ли… Не знаю, как это выразить. Я часто вижу это во сне. Мир устал. Близок некий конец. Люди потеряли способность логически мыслить — люди-камни. Они устали от самих себя. Они молят о смерти, и их молитвы будут услышаны. Я… я… ну, да… я готовлю к жизни на том, что останется от земли, новое существо. Я чувствую, что где-то кто-то другой тоже готовит новое существо. Возможно, и в нескольких местах. Эти существа встретятся, расплодятся и выживут, понимаешь? Но чтобы уцелеть в той мельчайшей крупице жизни, которая остается, они должны сочетать в себе лучшие черты всех существ, включая человека… Мои сны, мои сны… Ты считаешь меня безумной?
Она взглянула на меня и рассмеялась.
— Ты считаешь меня Сумасшедшей Кэрол?
— Не знаю, — сказал я. — Это определить невозможно.
И опять я ночью не смог уснуть и пошел по коридору к передней комнате. Я посмотрел сквозь бусы. Кэрол была одна, распростертая на кушетке, неподалеку горела неяркая лампа. Кэрол была обнаженной и, казалось, спала. Я раздвинул бусы, вошел в комнату и уселся в кресло напротив нее. Свет лампы падал на верхнюю часть ее тела; остальное было в тени.
Раздевшись, я двинулся к ней. Я присел на краешек кушетки и посмотрел на нее. Она открыла глаза. Казалось, увидев меня, Кэрол ничуть не удивилась. Но в карем цвете ее глаз, хотя и густом, и прозрачном, не возникло, казалось, ни интонации, ни ударения, как будто я был не тем, что она знала по имени или поступкам, а чем-то иным — силой, никак со мною не связанной. Зато благосклонность была.
В свете лампы ее волосы были такими же, как на солнце, — сквозь каштановый цвет проглядывал рыжий. Он был как огонь, пламеневший внутри; она была как огонь, пламеневший внутри. Я наклонился и поцеловал ее за ухом. Она зримо вдыхала и выдыхала воздух. Я соскользнул вниз, спустив ноги с кушетки, коснулся языком ее грудей, лизнул, перешел на животик, пупок, вновь на груди, потом вновь скользнул вниз, еще ниже — туда, где начинались волосики, и принялся целовать, легонько разок укусил, потом опустился ниже, миновал главное, осыпав поцелуями одну ногу, потом другую. Она шевельнулась, издала негромкий звук: «Ах, ах…» И тогда я оказался над щелью, над губками, и очень медленно сделал по краю губок круг языком, потом тем же кругом вернулся обратно. Я укусил ее, дважды погрузил язык внутрь, погрузил глубоко, вынул, вновь провел им по кругу. Там появилась влага, с легким привкусом соли. Я сделал еще один круг. Звук: «Ах, ах…» — и цветок раскрылся, я увидел бутончик и кончиком языка, так легко и нежно, как только мог, принялся щекотать и лизать. Ее ноги дернулись вверх, и пока она пыталась обхватить ими мою голову, я поднялся выше, продолжая лизать, останавливаясь, поднимаясь к самой шее, кусаясь, а пенис мой в это время тыкался, тыкался, тыкался, и тогда она протянула руку и ввела меня в щель. Скользя внутрь, я нашел ее губы губами — и мы накрепко сцепились в двух местах: губы влажные и прохладные, цветок влажный и горячий, жаркая печь внизу, я держал в ее теле свой пенис, целиком, неподвижно, а она извивалась на нем, умоляя…
— Сукин ты сын, сукин ты сын… шевели! Шевели им!
Она барахталась, а я оставался неподвижен. Я уперся пальцами ног в край кушетки и надавил еще глубже, все еще не шевелясь. Потом, удерживая в неподвижности тело, я сделал так, что мой пенис трижды дернулся сам по себе. Она отозвалась сокращениями. Мы проделали это еще раз, и когда я не мог уже больше терпеть, я вынул его почти целиком, вновь погрузил — гладкость и пекло, — повторил еще раз, а она извивалась на моем конце, точно рыба, точно я был крючком. Я сделал это еще много раз, а потом, вне себя, принялся раз за разом вонзать его внутрь, ощущая, как он растет, мы вместе поднимались ввысь, как единое целое, — превосходный стиль, мы поднимались, минуя все, минуя историю, минуя самолюбие, минуя сострадание и испытание, минуя все, кроме сокровенной радости блаженного Бытия.
Мы вместе достигли оргазма, и потом я еще оставался в ней, а пенис мой не слабел. Когда я поцеловал ее, губы у нее были уже совсем мягкими и безвольно уступили моим. Ее губы ослабли, сдались на милость всего на свете. Еще полчаса мы лежали в легких, нежных объятиях, потом Кэрол поднялась. В ванную она направилась первой. Потом за ней пошел я. В ту ночь-там не было никаких тигров. Лишь старый Тигр, который только что светло горел.
Наша связь продолжалась, сексуальная и духовная, но между тем, должен признать, Кэрол и с животными не теряла связи. Шли месяцы безмятежного счастья. Потом я заметил, что Кэрол беременна. Да, неплохо зашел я попить водички.
Однажды мы поехали в город за покупками. Мы, как всегда, заперли дом. По поводу кражи со взломом особенно волноваться не приходилось, ведь там разгуливали пантера, тигр и прочие якобы опасные звери. Припасы для животных поставляли ежедневно, но за своими нам приходилось ездить в город. Кэрол была хорошо известна. Сумасшедшая Кэрол — люди постоянно пялились на нее в магазинах, а теперь пялились и на меня, ее нового звереныша, ее нового старого звереныша.
Сперва мы сходили в кино, и фильм нам не понравился. Когда мы вышли, накрапывал дождик. Кэрол купила несколько платьев для беременных, а потом мы направились в магазин за остальными покупками. Назад мы ехали медленно, болтая, наслаждаясь друг другом. Мы были всем удовлетворены. Мы нуждались лишь в том, что имели; они нам были не нужны, и нас давным-давно перестало волновать то, о чем они думают. Однако мы ощущали их ненависть. Мы не принадлежали к их кругу. Мы жили с животными, а животные представляли угрозу их обществу — так они думали. А мы представляли угрозу их образу жизни. Мы носили старую одежду. Я не подстригал бороду, ходил лохматый, и хотя мне уже стукнуло пятьдесят, волосы у меня были ярко-рыжие. У Кэрол волосы отросли до попы. И мы всегда находили повод посмеяться. Посмеяться искренне, от души. В магазине Кэрол сказала:
— Эй, папуля! Соль летит! Лови соль, папуля, старый ублюдок!
Она стояла в проходе, между нами было три человека, и через головы этих людей она бросила пачку соли.
Я поймал ее; мы оба рассмеялись. Потом я взглянул на пачку.
— Э, нет, дочурка, шлюха ты этакая, так не пойдет! Ты что, хочешь закупорить мои артерии?.. Мне нужна йодистая! Лови, радость моя, и береги ребеночка! Сегодня я еще задам трепку этому бедолаге!
Кэрол поймала пачку и швырнула мне йодистую. Ну и видок у них был… Мы вели себя недостойным образом.
Мы веселились вовсю. Фильм оказался плохим, зато мы веселились вовсю. Мы снимали наши собственные фильмы. Даже дождик был добрым. Мы открыли окна и впустили его в машину. Когда я подъезжал к дому, Кэрол застонала. Это был стон безысходной муки. Она вжалась в сиденье и побелела как полотно.