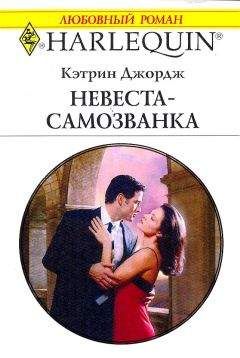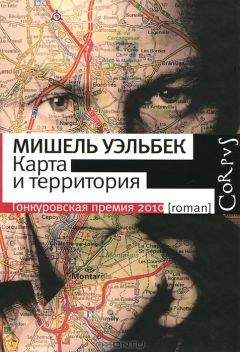Мишель Уэльбек - Возможность острова
На следующий день Венсан провожал меня в аэропорт Арресифе; он сам сел за руль внедорожника. Когда мы опять проезжали тот странный пляж с черным песком, усеянным мелкими белыми камушками, я попытался объяснить ему, почему испытываю потребность в письменной исповеди. Он слушал очень внимательно и, припарковавшись прямо перед залом, где шла регистрация, сказал, что понимает меня, и разрешил записать все, что я видел; единственное условие — рассказ должен быть опубликован лишь после моей смерти, или, по крайней мере, прежде чем публиковать его и даже давать кому-нибудь прочесть, я должен получить формальное разрешение от руководства Церкви, иными словами, от триумвирата: его самого, Учёного и Копа. Я легко согласился на эти условия — и знал, что он мне доверяет, — но почувствовал, что, кроме условий, он думает о чём-то ещё, моя просьба словно пробудила в нём какие-то смутные, ему самому пока неясные мысли.
Мы сидели в зале с огромными стёклами, выходившими на взлётно-посадочные полосы, и ждали, когда объявят посадку на мой рейс. Вдали, на фоне темно-синего неба, виднелись очертания вулканов, они выглядели привычными, почти приветливыми. Я видел, что Венсан хочет придать нашему прощанию больше теплоты, время от времени он сжимал мою руку или обнимал меня за плечи; но он никак не мог подобрать по-настоящему нужные слова и не умел делать надлежащих жестов. С утра у меня взяли образец ДНК: теперь я официально принадлежал к элохимитской церкви. Когда стюардесса объявила посадку на мадридский рейс, я сказал себе, что этот остров с его умеренным, ровным климатом, где круглый год светит солнце, а колебания температуры минимальны — идеальное место для обретения вечной жизни.
Даниель25,7
Действительно, Венсан1 пишет, что именно разговор с Даниелем1 на паркинге аэропорта Арресифе навёл его на мысль о рассказе о жизни, который изначально использовался лишь как вспомогательное средство, паллиатив на то время, пока Злотан1 не завершит работу по анализу сетей памяти, — но которому впоследствии суждено было приобрести столь важное значение в свете концептуальных логических положений Пирса.
Даниель1,19
Мне предстояло провести два часа в мадридском аэропорту, ожидая посадки на рейс до Альмерии; за эти два часа чувство своей абстрактной чуждости окружающему миру, не покидавшее меня после пребывания у элохимитов, начисто испарилось, я целиком погрузился в страдание — как входят, постепенно, шаг за шагом, в ледяную воду; поднимаясь по трапу в самолёт, я, несмотря на жару, в буквальном смысле дрожал от горечи и тоски. Эстер знала, что я улетаю в тот же день, и мне стоило огромных усилий не сказать ей, что я проведу два часа в мадридском аэропорту: перспектива услышать в ответ, что два часа — это слишком мало, да ещё брать такси, и пр., была совершенно невыносима. И тем не менее все эти два часа, пока я слонялся среди магазинчиков CD, оголтело раскручивавших новый диск Давида Бисбаля (она снималась в одном из последних клипов этого певца, в довольно откровенном виде), курительных комнат, Puntos de fumadores, и лавок со шмотками «Дженнифер», во мне поднималось все более нестерпимое ощущение, что я вижу её, вижу, как её тело, юное, эротичное в летнем платье, движется в нескольких километрах отсюда по городским улицам, под восхищёнными взглядами парней. Я забрёл в «Тип-тап-тапас», заказал тошнотворные колбаски, плававшие в жирнейшем соусе, и залил это все несколькими кружками пива; я чувствовал, как мой желудок раздувается, наполняется всякой мерзостью, и на миг меня пронзила мысль сознательно ускорить процесс распада, превратиться в отталкивающего, жирного старика, чтобы окончательно проникнуться сознанием, что недостоин тела Эстер. Когда я приступал к четвёртому «Маоу», по радио в баре стали передавать песню, кто поёт, я не знал, но не Давид Бисбаль, скорее просто «латино», с теми потугами на вокализы, которые у нынешней испанской молодёжи вызывают смех, короче, певец скорее не для куколок, а для домохозяек; как бы там ни было, припев у песни был «Mujer es fatal»[64], и я вдруг понял, что в первый раз слышу, чтобы кто-то так точно выразил эту простейшую, дурацкую мысль, и что поэзия, когда ей удаётся достичь простоты, — великая вещь, решительно the big thing, испанское слово «fatal» подходило здесь как нельзя лучше, я не мог подобрать другого, которое бы полнее соответствовало моему положению, это был ад, самый настоящий ад, я сам вернулся в ловушку, захотел в неё вернуться, а теперь не знал, как вырваться, и даже не был уверен, что хочу вырваться, в уме моем все смешалось, если у меня вообще оставался ум, но в любом случае у меня оставалось тело, тело страдающее, выжженное мучительным желанием.
Вернувшись в Сан-Хосе, я сразу лёг спать, предварительно приняв изрядную дозу снотворного. Следующие два дня я ничего не делал, только слонялся по комнатам; конечно, я теперь был бессмертным, но в данном случае это ничего не меняло, Эстер по-прежнему не звонила, а всё остальное не имело значения.
Случайно включив какую-то передачу о культуре, которая шла по испанскому телевидению (это было, впрочем, нечто большее, чем случайность, это было чудо, на испанском телевидении почти нет передач о культуре, испанцы терпеть не могут ни передач о культуре, ни культуру вообще, для них это сфера глубоко чуждая и враждебная, иногда даже кажется, что, заговорив с ними о культуре, наносишь им личное оскорбление), я узнал, что последние слова Иммануила Канта на смертном одре были: «Хорошо». В ту же секунду со мной случился мучительный приступ смеха, сопровождаемый болями в желудке; боли продолжались три дня, после чего меня стало рвать желчью. Я вызвал врача, он поставил диагноз «отравление», спросил, что я ел в последние дни, и посоветовал купить молочные продукты. Я купил молочные продукты и в тот же вечер зашёл в «Даймонд найтс», помнится, это было вполне пристойное заведение, где вас не слишком ретиво принуждали к потреблению. У барной стойки сидели штук тридцать девиц и всего два клиента. Я выбрал одну марокканку, лет семнадцати, не больше, декольте красиво подчёркивало её большие груди, и я действительно решил, что у меня получится, но факт остаётся фактом: оказавшись с ней в комнате, я обнаружил, что у меня не стоит даже настолько, чтобы она могла надеть презерватив; сосать меня при таких условиях она отказалась, и что было делать? В конце концов она стала меня дрочить, упорно глядя в угол комнаты, но жала слишком сильно, было больно. Через минуту брызнула тоненькая прозрачная струйка, и она тут же отпустила мой член; я застегнулся и пошёл пописать.
На следующее утро мне пришёл факс от режиссёра «Диогена-киника». До него дошли слухи, что я отказался от проекта «Групповухи на автотрассе», он весьма сожалел и выражал готовность осуществить постановку, если я соглашусь написать сценарий. На следующей неделе ему нужно по делам заехать в Мадрид, он предлагал встретиться и все обсудить.