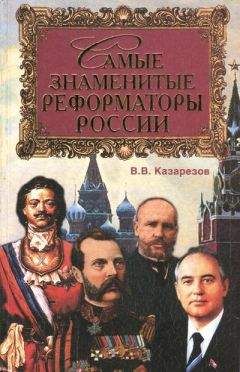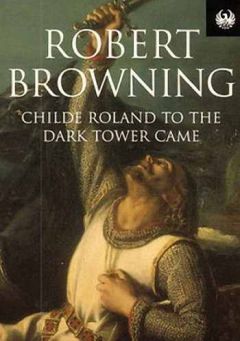Роланд Харингтон - Золотая кость, или Приключения янки в стране новых русских
Хлыст вышиб из моих рук журнал.
— Валюта или жизнь!
Я непринужденно напрягся.
— Добрый вечер, дорогуша.
Врожденная храбрость и высочайшее мужество сделали меня хладнокровным, как варан. Драться или сдаться? — такова была моя дилемма. Конечно, я могу вступить с бандитами в бой, думал я. Их трое, я один: шансы у меня неплохие. В юности я занимался боксом, мне ведомы японские методы самообороны. Я не только кабинетный ученый, но и кабинетный каратист. Сколько раз мне приходилось класть на лопатки врагов и завистников! Однажды в коридоре Здания Иностранных Языков я нокаутировал громадного старшекурсника, пристававшего к хорошенькой студентке. Как она после этого в меня влюбилась! Наш роман продолжался весь семестр. Кажется, ее звали Сенди. Так или иначе жизненный опыт научил меня, что лучше давать сдачи, чем давать деру. Хотя, конечно, Толстой, Ганди и Мартин Лютер Кинг с основанием отвергали практику противления злу насилием. Их взгляды заслуживают внимания, тем более в данной ситуации. Ведь я еду в Петербург не только в архивах копаться, а чтобы провести осмотр дворцов, парков и предприятий на предмет моего воцарения. Моя кость не простая, а золотая! Потом я вернусь в Москву, где мне предстоит сформировать мое первое правительство. Потом — реставрация, коронация, овация. Если я сейчас начну совершать подвиги, это с моей стороны будет просто эгоизм. Меня ждут исторической важности задачи, ради решения которых мне, видимо, придется воздержаться от искушения дать разбойникам отпор. Я не имею права рисковать жизнью. Она принадлежит не мне, а стране! Итак, через несколько секунд меня начнут грабить. Бандиты убедятся, что мой бумажник пуст. Когда я сказал таратайщику, что не ношу с собой денег, это была правда. Верно, в тайнике тела у меня спрятано 100 долларов — плата за комнату в Петербурге. Может быть, меня заставят раздеться догола? Сам по себе стриптиз меня не смущает: я часто обнажаюсь на людях. В университетской ли аудитории, на карибском ли пляже, я охотно дефилирую desnudo:[267] мое тело — мой текст…
— Ты че, оглох? Давай доллары, говорю! — повторил хлыст.
— Откуда вы взяли, что я иностранец? — парировал я грубое требование на том чистом русском языке, на котором говорили мои деды.
— Наши зимой в шортах не ходят, — процедил преступник.
Я взглянул на свой мускулистый таз, облаченный в шелковые трусы имени Остина Рида. Вот тебе и тьфу! В спешке покидая студию Гурецкого, я забыл надеть кожаные брюки.
Хлыст дал мне прикладом в ухо, но я им даже не повел и, превозмогая мгновенно наступившую мигрень, принялся рассуждать на все купе:
— Дорогуша, вы только что произвели вторжение в мое privacy.[268] Трагедия России заключается в том, что в вашем-нашем языке нет эквивалента этому славному слову. Мы имеем дело с потрясающим пробелом в отечественном лексиконе.
Хлыст свирепо сплюнул. Лицевые карбункулы и отсутствие подбородка говорили о том, что то был классический криминальный мужичок малой величины, недоносок, недополучивший при зачатии полную порцию ДНК. Но я спокойно продолжал развивать свою мысль.
— Объявляю конкурс на лучший русский эквивалент непереводимого английского термина!
— Молчи, падло!
Хлыст размахнулся и снова стукнул меня, на сей раз по шее. Другой бы на моем месте окочурился, но я даже не ойкнул, хотя краем челюсти почувствовал, что у меня за шиворотом ширится шикарная шишка.
— Умоляю вас, не стреляйте! — смело сказал я. — Что будет делать без меня старушка-мать? У меня двое маленьких детей, любимые студенты. Пожалуйста, пожалейте путешествующего профессора. Вся моя жизнь еще впереди: мы Хакены отличаемся замечательным долголетием.
Хлыст опять врезал мне, на сей раз в живот, но я даже не отрыгнулся. Более того, несмотря на жестокую боль, с потрясающим самообладанием заявил:
— Я вам дам все, что у меня с собой и за душой.
Хлыст пнул меня пулеметом.
— Деньги, часы, документы.
Укоризненно вздохнув, я вытащил из кармана бумажник марки «Bosca» и снял с запястья именные «Gucci».
— Tu m’ennuies au superlatif,[269] — бросил я.
Грабитель преступно прищурился.
— Ты что, бухой?
— О нет, мой милый тать, я никуда не собираюсь бухаться. Но представьте себя на моем месте. Я спокойно сидел и читал роман Вени Варикозова — малого Марлинского двадцать первого века, как вдруг в купе вторгаются лютые разбойники в виде вас и ваших коллег. А ведь я находился в том чудесном состоянии, которое мудрый Кольридж определил как the willing suspension of disbelief.[270] Увы, вы развеяли мои литературные иллюзии. Чтение interruptus![271]
Я непринужденно почесал ноющую шею.
— Поймите меня правильно, дорогуша, я не сержусь, что вы нарушили мой покой. Вы и ваши коллеги члены de la minorité criminelle dans la société.[272] Как говорят в народе, столь колоритной прослойкой которого вы являетесь, деньги наши стали ваши.
Хлыст хищно хмыкнул и свистнул в десять пальцев. Купе наполнилось бандитами разных размеров и видов. Они медленно обступили меня и с уголовной угрозой тяжело задышали. Их физиономии были галереей Ламброзо, но это меня не смутило. Я вынул пачку «Capri» и беспечно закурил, почти пуская дым то в одни, то в другие порочные черты. Грабители захлопали глазами, не зная, бить меня или любить.
Лучший способ завоевать уважение преступника — это нанести ему личное оскорбление. Что я и сделал.
— J’ai un couteau, je vais te buter![273] — воскликнул я и повел ручкой «Cross» перед носом самого большого бандита, белокрысого верзилы высшей киллерской категории. На нем была тельняшка, пулеметные ленты крест-на-breast[274] и грозди гранат на конфузе, а с ремня свисал тлеющий огнемет. На плече бандит держал громадный геттобластер, который орал песни «Любэ». Рваные ноздри и клеймо на лбу «Раб КПСС» свидетельствовали о том, что великан был ветераном советской каторги. Прочие преступники подобострастно на него посматривали, из чего я заключил, что это их главарь.
— Я совратил твою мать, — сказал я, открыл стоптанный номер «Пращура» и демонстративно зачитался, краем глаза, однако наблюдая за реакцией верзилы.
Тот открыл рот, обнажая фальшивую фарфоровую фиксу, но от изумления не смог произнести ни слова. Так он стоял передо мной, беспомощно глотая купейный воздух в присутствии своих подручных и с каждой секундой теряя репутацию киллера, которая столь много для него значила.
Подручные сначала с недоумением, потом с тревогой смотрели на своего оскорбленного, оскопленного лидера.
— И хочешь знать грустный факт? — сказал я, продолжая смотреть в журнал. — Она мне совсем не понравилась, ни в зад ни в перед. Впрочем, может быть, у тебя есть сестра? Пришли-ка ее мне в Никсонвиль, но только если она смазливее мамы.
Послышались матерные охи и вздохи. Бандит едва не грохнулся на пол в пароксизме позора, но я стремительно наклонился вперед и поддержал его мускулистой рукой.
Пахан оправился. Мы разговорились.
— Лучший диск «Любэ» — «Комбат». Это шедевр музыкального постмодернизма! «Полустаночки» и «Давай за…» мне не так понравились.
— Согласен.
Я отложил журнал в сторону.
— Грозный господин пахан! Милые шестерки! Как вы смогли убедиться, я свободно ботаю по фене. Почему? — спросите вы. А потому, что с детства интересуюсь русским народным криминалом. В семь лет я уже знал наизусть поэму Пушкина «Братья-разбойники». Дальше — больше. Подростком зачитывался «Преступлением и наказанием», студентом распевал «Из-за острова на стремя…». А с тех пор как стал профессором, ваша бранная, бравурная речь и неприличные наколки являются предметом моих культурологических исследований. И не только потому, что вас окружает увлекательная атмосфера страсти-мордасти. Я различаю в ваших землистых лицах следы человеческого недостоинства. Вы — представители самой пассионарной прослойки общества, элита подонков, двигающая вперед культуру и историю. Недаром Достоевский использовал ваши типажи в своих текстах, а Бакунин с Нечаевым хотели сделать вас штурмовиками революции. А сколько чекистов и комиссаров вышло из ваших рядов!
Уголовники улыбнулись от удовольствия.
— Я знаю, о чем болтаю! Моя книга «Бытовые кражи в русском романе» принесла мне репутацию криминалиста в законе.
Своими речами я совершенно и быстро завоевал сердца грабителей. Об этом свидетельствовали их робкие вопросы.
— Сувенирчик? Укольчик? Девочку?
Простодушные преступники не знали другого способа понравиться приблатненному профессору, как сделать ему порочные предложения.
Я погасил сигарету царственным жестом.
— Perhaps[275] попозже.
И вновь раскрыл рот.