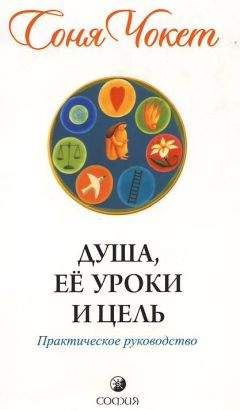Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 11 2006)
Проще говорить, пожалуй, о поэме “Я видел”. Задумана она с дантовским размахом, никак не меньше. Она должна была все сказать о времени и о поэте. И она, на мой взгляд, не удалась. Так иногда случается, когда поэт или писатель делает слишком сильный акцент на какую-то одну вещь, когда он на нее слишком рассчитывает. А то, что Оболдуев очень рассчитывал на поэму, ясно хотя бы потому, что он попытался ее опубликовать, хотя ему — человеку в высшей степени трезвому — тому, “кто здрав, средь тех, кто болен” — должно было быть ясно: этого в советскую печать не пропустят никогда. Сегодня, кажется, уже нужно объяснять, почему напечатать “Я видел” было нельзя не только до 1953 года, но и после — до самого крушения советской власти и ее цензуры. Оболдуев был оригинален, ибо мыслил. А этого не прощали.
В поэме около семи с половиной тысяч строк (чуть ли не в полтора раза больше, чем в “Евгении Онегине”), организованных в изощренную строфическую структуру. Первая строфа звучит так:
Я видел мглу невзгод,
Печали, боли,
Упавшую в народ
Непоневоле.
Глядел людей, предавших
Все ради выгод,
В покупках и продажах
Нашедших выход.
Им почести легки,
Им подлость — штамп,
Им — больше ни строки
Не дам.
Такой строфой писать очень трудно. Трудно просто технически — в русском языке нет такого количества коротких слов, к тому же рифмующихся. В самой попытке писать огромный текст такой строфой уже есть что-то почти цирковое. Здесь нужна какая-то невероятная изобретательность. И поэт, потратив огромные силы на преодоление материала, не смог выразить того сверхсмысла, который пытался вложить в текст. Это — чудо формы, но не более того. Видимо, большой поэме нужна соответствующая замыслу пластика ритма и строфбы, а здесь эта пластика вошла в противоречие с темой — с реальным рассказом о событиях и явлениях, об истории и действительности.
Строфа имеет практически нулевую инерцию — она постоянно тормозит действие. Ритм не разгоняет повествование, оно тут же вязнет. Хотя сама по себе идея писать именно так — необыкновенно любопытна. Невозможность уложить законченное высказывание в одну строфу буквально заставляет переносить продолжение в строфу следующую. Получается своего рода не инерция ритма, а инерция содержания. Возникает нехарактерная для крупных поэтических вещей форма связанности. Но необходимость писать назывными и безличными предложениями, опускать глаголы, постоянно использовать междометия, быть неразборчивым к любой практически лексике — иногда крайне разностильной, — вынужденное подчинение смысла прокрустову ложу строфы расшатывает движение текста, делает его неровным, дробным, качающимся.
Особенно трудно укладывается в такую строфу самая обыкновенная история, которую можно рассказать (а значит, и нужно рассказывать) самыми простыми словами:
Он проводил отца
В уездный город.
Кус мяса из бойца
Содеял ворог:
Руки нет, ног обеих.
Тех инвалидов,
На средства добродеев
Героев выдав,
Питать был дан указ:
В мешке вися,
Дыши, коль дьявол спас;
Жизнь — вся.
Здесь только две первые строки написаны по-русски. “Кус мяса из бойца / Содеял ворог” — это просто чудовищно. И таких строф в поэме очень много. А ведь именно простые слова без поэтических выкрутасов часто производят в повествовательной поэзии сильнейшее впечатление, но это бывает, когда сопротивление стиха удается преодолеть: “Татьяна то вздохнет, то охнет; / Письмо дрожит в ее руке; / Облатка розовая сохнет / На воспаленном языке”. Это одни из самых, может быть, пронзительных и сильных строк во всей русской поэзии.
Кажется, выбрав строфу и начав писать, Оболдуев просто не смог остановиться, потому считал, что должен поэму закончить во что бы то ни стало. Он ее продавил. Но она не полетела.
Если мы обратимся к книге “Устойчивое неравновесье”, то увидим, что Оболдуев не был мастером повествовательного стиха, ему это как будто не очень интересно. Так зачем же браться? А если уж взялся, почему бы не выбрать для поэмы размер попросторнее? Я думаю, что писать пятистопным или четырехстопным размером Оболдуев не мог — ему нужен был предельный результат, который обладал бы формальной гарантией поэзии самого высокого уровня. И нужно это было в первую очередь самому поэту в его тяжелейшем противостоянии с глухой стеной неприятия и непризнания.
Поэма писалась в 1941 — 1952 годах. В своем противопоставлении официальной поэзии, ее тотальному давлению поэт обязан быть бескомпромиссным. Если все главное происходит вне печати, если опереться, по большому счету, не на что, то единственной гарантией профессионализма является изощренный формальный поиск, гипертрофированный профессионализм стихотворной работы. И все это черты оболдуевской поэзии, которыми она отчаянно противостояла поэзии советской, так она боролась за существование.
Поэзия Оболдуева — это поэзия без читателя. Это поэзия замкнутого, узкого круга. Здесь каждый знает, как отзовется его слово. Это — поругают, это — вознесут до небес. Поэт, работающий без читателя, делает свой выбор: главное то, что происходит здесь и сейчас за моим письменным (чаще кухонным) столом, а остальное не слишком существенно. Но отсутствие непредсказуемой обратной связи лишает поэта возможности рисковать, потому что риск с предсказуемыми последствиями — не риск, а сознательный выбор, и во многом это выбор просчитанный. Здесь редки случайные удачи, а значит, и настоящие открытия. И поэма не удалась.
Виктор Куллэ, рецензируя книгу Оболдуева, пишет: “В лице Оболдуева мы имеем уникальный — не только в отечественной, но и в мировой поэзии — пример того, как поэтическое прозрение предвосхитило крупнейшее научное открытие. „Устойчивое неравновесье” — название не только одноименного цикла, но и составленного самим Оболдуевым итогового сборника. То есть главнейший принцип его поэтики. В 1977 году за труды по термодинамике и статистической механике неравновесных процессов получил Нобелевскую премию выдающийся бельгийский химик Илья Пригожин, ровно этими же словами определивший суть своей теории диссипативных структур”2.
Конечно, “Устойчивое неравновесье” Оболдуева — это метафора, и говорить о предсказании научного открытия можно тоже только метафорически. Пригожин действительно показал, что в некоторых случаях термодинамические процессы вместо того, чтобы увеличивать энтропию и обращаться в хаос, могут приобретать некоторую устойчивую форму — например, на поверхности кипящего масла могут возникнуть устойчивые узоры, так называемые шестиугольники Бенара. Можно попробовать взглянуть на поэтику Оболдуева именно с точки зрения теории хаоса.
“Устойчивое неравновесье” — это другое название поэзии, которая возникает из хаоса, состоит из хаоса, но сама хаосом не является. Она возникает не нарочно, не рассудочно, а случайно. Ее нельзя вылепить, но ее можно вызвать к существованию, как шестиугольник Бенара на раскаленной сковородке. Поэт — это источник и проводник. То, что “устойчивое неравновесье” — это именно поэзия, подтверждает большое количество стихов о поэзии и их положение в циклах, на которые разбита книга, — как правило, стихи о поэзии открывают цикл и завершают его. Цикл “Своевременные мысли” начинается строчками “Я осторожно вел стихи / Среди подводных скал людей”, а первые строчки последнего стихотворения в этом цикле — “Я не знаю теоретических положений, / Ведущих сознанье человека / К вбидению поэзии...”. Другие циклы (за исключением посвященного любви “Лепетанья Леты”) имеют ту же структуру. А заканчивается вся книга стихотворением “Птенчик”:
Торчмя торчит глававый набалдашник
Слепого разума двуногих злюк,
Которым сор идей позавсегдашних
Сегодня обезвредить недосуг.
И в магии таинственного слова,
Клеймящего узлы разлук и встреч,
Полна значенья самого простого
Высокая значительная речь.
Поэзия рождается как оформленная структура отчаянным усилием поэта, рождается в неравновесной хаотической среде “двуногих злюк”, которым поэт дает и много других весьма нелестных определений. Поэт говорит о “смертельности красоты, растоптанной варварами”: