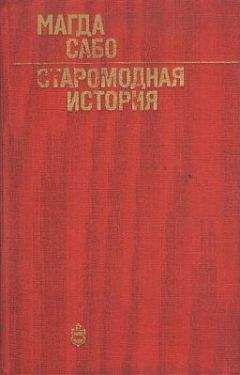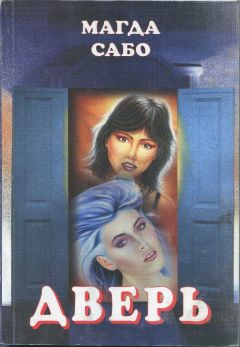Тони Хендра - Отец Джо
Что и говорить, все такой же эгоист. Я не думал о том, каково было ему, что за мысли жили в этом простецком черепе святого. Испытывал ли он страх? Была ли та дрожь правдивее слов? А что, если семьдесят лет умерщвления, ограничения и служения напрасны? Вот что ужаснее всего! Вдруг засомневаться в том, что по вере воздастся, вдруг подумать, что вера и есть та самая награда — скромненький такой презент родящему на пенсию. Как я жалел, что в тот момент меня не было рядом — я бы обнял его, родящего. Не было на свете другого такого человека, с кем я хотел бы быть в минуту его отбытия в темноту, кого я хотел бы держать за руку, когда тот уже ускользает от меня и его душа отлетает к небесам… или в небытие.
Меня как на поводке повлекло к церкви Святой Троицы, что на пересечении Восемьдесят второй и Амстердам-авеню, за углом от моего офиса. Слезы высохли. Я сел на скамью. Потом встал на колени и закрыл глаза. Открыл. Бессловесный позолоченный покров находился на алтаре в мраморной нише. Если внутри кто и существовал, ему нечего было сказать мне.
Хорошо, что я хоть виделся с отцом Джо перед смертью, обнял его на прощание. Хорошо, что мой сынишка поцеловал его поцелуем мира — как дедушку, кем отец Джо и приходился ему, — и больной, налитый кровью глаз дорогого старика увлажнился. Отец Джо был для меня воплощением Господа больше, чем какая-либо из этих совершенных статуй, больше, чем уродливый в своей детальности немецкий витраж.
Но эти статуи святых, по крайней мере, некоторые из них, когда-то были живыми людьми со своими причудами, неуклюжие, любящие, они повлияли на своих современников так же, как отец Джо — на меня. Этих святых чтили не только ради того, чтобы испросить у них что-то, но и как неподвластную смерти связь с божественным, с Лучшим, со всем тем, что связывается с Богом «там, наверху». Бог «там, наверху» непостижим без человека в качестве посредника — мы должны держаться того, кто коснулся непостижимого.
Я размышлял о том, чтобы помолиться за отца Джо, и тут же он предстал перед моим мысленным взором — прямо как в жизни, как будто все еще существовал где-то в нашем мире Видение придало мне сил, успокоило после потрясения, вызванного утратой.
Господи, неужели я, циник, скептик, бывший сатирик и типичный представитель класса болтунов, для которого ничто не свято, наконец-то обрел своего святого?
И в той уродливой, с отстающей побелкой церквушке, вдали от Квэра я в последний раз пропел гимн «Славься, Царица!» — в честь отца Джо.
Шпиль вырастает среди деревьев вдоль аллеи скорее, чем я ожидал Я вздрагиваю. В его тени маленьким квадратом расположилось монастырское кладбище: простые каменные кресты, стоящие по-французски аккуратными рядами — прямо кусок Фландрских полей.[74]
Я спешу по аллее. Но не потому, что не терпится попасть в Квэр — монастырь стал мне чужим. Даже не уверен, что это ощущение временное — все еще свежа обида на тех, кто не сообщил о смерти Джо. А может, дело в другом — без отца Джо монастырь перестал быть мне интересен.
Я отворяю большую черную дверь, которая когда-то служила входом в мой тайный рай. Рая больше нет. До кладбища теперь рукой подать, оно в стороне от дороги, но я не могу переступить порог. Не сейчас. Я боюсь, что присутствие отца Джо окажется таким сильным, что я не выдержу — совсем как в юности, когда в церкви у меня возникало непреодолимое желание выбежать — до того явственно я ощущал присутствие Христа. «Род людской способен вынести лишь столько-то, не больше».
Я ускоряю шаг по широкой дороге с холма, прохожу через рощу каштанов, осенние листья которых все еще теплятся рыжевато-бурым. Все дорогое и знакомое мне изменилось. То, что раньше было тихой гаванью, обернулось мертвым пейзажем, лишенным духа, оживлявшего эти окрестности для меня.
Я подошел к нашему излюбленному местечку — узкому мысу, который все еще сохранялся, хотя из года в год морская вода размывала его, дальше и дальше вдаваясь в лесистую часть; здесь мне легче вызвать образ к жизни. Вытянутое лицо с часто моргающими глазами и постоянно кривящейся улыбкой, огромные уши, треугольный, как у кролика, нос. Каждый раз, встречаясь с отцом Джо, я невольно ожидал увидеть его с длинными кроличьими усами.
Он стоит там, на вечном ветру: руки спрятаны от холода под наплечником, ноги с безнадежно плоскими ступнями, в черных носках и огромных, как у Астерикса, разношенных сандалиях. Мультяшный персонаж, духовная опора, непоколебимая и твердая, как огромный дуб, который растет на вершине холма.
Отец Джо в последний раз изумил меня.
Впервые догадка мелькнула, когда друг из Англии прислал мне некролог. Оказывается, на заупокойную мессу явилось что-то около двухсот человек. Как это обычно бывает на похоронах, а в особенности на похоронах тех, кто пользовался любовью окружающих, на каждого пришедшего обычно приходится человек десять тех, кто хотел бы прийти, но не смог.
Таким образом, крут знакомств этого смиренного, державшегося в тени монаха-затворника расширяется до четырехзначной цифры. В том же самом некрологе я прочитал следующие поразительные слова: «Он коснулся жизней стольких — и в Англии, и за ее пределами, в лоне католической церкви и вне ее… трудно переоценить значение его пастырского труда».
Отец Джо? Мой отец Джо?
Нет, я никогда не мнил о себе столько, не зацикливался так на самом себе, чтобы воображать, будто был у отца Джо единственным другом и исповедующимся. Я знал, что у него искали помощи и другие, что у него были «старинные друзья» — так он отзывался о них, особенно с возрастом. У других монахов Квэра также были приходившие к ним на исповедь, монахи также виделись со старыми друзьями, которых пускали в монастырь. В Квэре вообще относились к подобным вещам терпимее, не в пример другим монастырям или монашеским орденам.
Но это «коснулся жизней стольких»… Если прикинуть, выходило, что он общался с сотнями?!
Я всегда верил — исходя уже из одной только его глубокой привязанности ко мне и неизменной заботы — что дружба, определявшая для меня все, для него также имела немалое значение. В настоящей дружбе обе стороны открывают уникальность собственной личности, то «я», которое у них должно быть. Ваш верный друг присоединяется к вам в плавании по бурному морю самости, и ни тот, ни другой с самого начала, едва ступив на борт, не знают, чем кончится вояж, который изменит обоих.
Здравый смысл подсказывает, что одному человеку будет непросто поддерживать такие тесные дружеские отношения с большим количеством людей. Это скажется на его физическом состоянии — он заплатит временем, энергией, терпением, сосредоточенностью — еще сильнее на эмоциях, а уж о душе и говорить не приходится. И вот по мере того как разные люди продолжали отдавать отцу Джо должное, стало ясно, что он предпринял не пару-тройку, и даже не десяток-другой, а сотни подобных вояжей, менявших жизнь.
Мое неведение в какой-то мере объяснялось тем, что я жил не с той стороны Атлантики. Его европейские друзья наверняка были более осведомлены о его славе. Но тот факт, что я, журналист, даже не догадывался о ее размерах, говорит о невероятной скромности отца Джо. За все годы нашей дружбы он ни словом не обмолвился о том, что существуют сотни других «Тони» — поведение, не свойственное большинству духовных наставников, какими бы глубоко духовными они ни были и какими бы возвышенными мотивами ни руководствовались, наслаждаясь своей значимостью среди последователей, раздуваясь, используя истории своего успеха в качестве примеров для неофитов.
Джо никогда не распространялся по поводу своих советов, пригодившихся другому «старому другу», якобы из желания преподать мне урок. Уверен, что и других он не пытался вдохновить таким образом — раскрывая некие поучительные моменты нашей дружбы. Насколько я знаю, он одинаково относился ко всем членам огромной толпы друзей. Конечно, когда к тебе относятся как к единственному в своей жизни, это обезоруживает и подкупает; в то же время, когда ты был с ним, ты действительно был с ним. Он любил того, кто находился рядом — не делая духовных различий, будучи в высшей степени тактичен.
Когда я в разговоре с одним из монахов Квэра выразил удивление по поводу того, что был «не единственным» у отца Джо, тот ответил: «Да-да, каждый был уверен в том, что он — лучший друг Джо».
И все мы были правы. Все мы были его лучшими друзьями.
Я читал все новые и новые отклики на смерть Джо, расспрашивал людей и постепенно узнал, что отец Джо был известен тем, что направлял людей к их истинному предназначению, особенно святых отцов, изрядно потрепанных бурями экспериментаторства и противоречий после Второго Вселенского Собора. Однако большинство приходивших к нему были мирянами вроде меня, обычными людьми самых разных профессий, с трудом преодолевавшими жизненные невзгоды. Многие знали отца Джо даже дольше меня — пятьдесят, а то и шестьдесят лет.